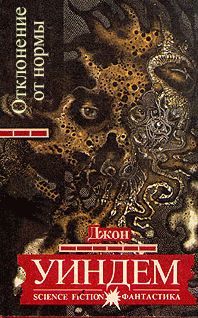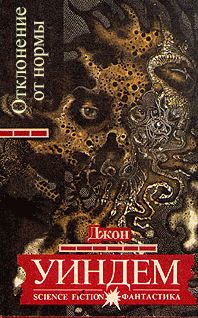Значит, Пайпер правду сказал. Никакой войны не было! Была Большая Игра с привлечением большого количества статистов. Некоторые из них остались на съемочной площадке. Ричард, Чарли, полицейский, старик, все люди Флайта… Прямое, натуральное кино — и больше ничего.
И тут Тони увидел себя, как бы в кадре, глазами оператора.
На переднем плане неимоверно грязный малый, в рваной одежде, с безумным взглядом воспаленных глаз и многодневной щетиной на лице. Настоящее исчадие ада по кличке Беспалый. За ним — толпа таких же оборванцев.
Отработанным движением профессионального убийцы Беспалый вырывает из кармана пистолет, и на куртке старины Пайпера появляются две дыры. Помощник продюсера падает — не по-киношному, медленно и красиво, — а мгновенно, как и полагается убитому.
Всем ясно, что в пистолете больше нет патронов, но «исчадие ада», на лице которого гримаса ненависти, нажимает и нажимает спусковой крючок.
Выстрелы отгрохотали. В зловещей тишине стало отчетливо слышно стрекотание кинокамеры.
«Жаль, что не осталось хотя бы одного патрона», — подумал Тони, поднимая взгляд.
На съемочной платформе приплясывал от восторга оператор-попугай. Заметив, что Макфейл смотрит на него, он оторвался от камеры, показал большой палец. Этот жест на профессиональном языке значил:
«Все о'кэй! Отличные будут кадры».
Набатно, тревожно ударил колокол. Сознание проснулось сразу, но, завороженное и даже испуганное неведомым раньше металлическим голосом, замерло, затаилось, и он стал вспоминать.
«Где и когда я слышал эту молитву? В детстве или когда оплакивал свои надежды? А может, в церкви или каком-нибудь фильме?»
Отозвался второй колокол, третий.
Они были моложе и добрей первого и без тени лукавства пообещали ему успокоение, намекнули, что все и вся все равно суета сует. Голоса их были сладкие и тягучие наподобие патоки.
Литтлмен[8] может, уснул бы снова, но тут пронзительно и ясно закричал, заплакал четвертый колокол. Голоса его братьев смешались, перепутались. Больно и тяжело, будто сердце во время приступа тахикардии, заколотился первый. Забыли о своих обещаниях колокола-проповедники: стали спорить и ругаться. Четвертый же внятно и четко потребовал, чтобы он, Человек, проснулся и начал действовать. Он, точнее они, потому что этот звонкий и откровенный голос в одно мгновение объединил колокольный перезвон в слаженный квартет, знали о нем все, даже невозможное, то, что произойдет в будущем, и пожалели душу Литтлмена, которую напрасно позвали к подвигу. Жалея его, они даже как бы заспорили с кем-то, но то ли их убедили, то ли приказали, и медный хор затих, смолк. Остался только четвертый, самый серебряный и вразумительный. Он пообещал Литтлмену в награду за подвиг скорую и легкую смерть и нетерпеливо спросил: «Чего же ты медлишь?! Приступай к своей работе — разжигай костер. Вот тебе спички…»
Литтлмен застонал, будто и впрямь зажигал, например, конфорку и спичка, догорев, обожгла ему пальцы. Он рывком отбросил влажную простыню, сел, не понимая спросонья, где он и что с ним.
Голова прямо-таки раскалывалась от боли. Во рту было сухо и горько.
«Где же я так вечером нализался? — тупо удивился он и, придерживаясь рукой за стену, заковылял на негнущихся ногах к умывальнику. — Кажется, у Джеффи был вчера день рождения… Но ведь я не пошел. И вообще среди ночи никогда не просыпаюсь…»
Литтлмен отвернул кран и сунул голову под клокочущую струю.
Это не принесло облегчения.
Он вспомнил: на подоконнике, половина которого служила ему буфетом, стоит начатая бутылка вина.
Пошатываясь, Литтлмен добрел до распахнутого окна, на ощупь нашел бутылку и сделал три глотка.
В следующий миг внутри будто что-то взорвалось. Литтлмен вскрикнул, упал грудью на подоконник, и его вывернуло в темный двор, на любимую сирень тетушки Клэр. Он рвал до тех пор, пока в желудке не осталось и капли вина (бог мой, неужто оно такое омерзительное?!), а во рту не появился привкус желчи. Обессиленный, Литтлмен едва смог добрести до умывальника — прополоскал рот, выпил немного воды, ощущая свое муторное состояние как продолжение сна.
Затем присел на табурет и взглянул в окно, где ночь рождала рассвет — своего нелюбимого сына. И вдруг так же внезапно, как и первый удар поминального колокола (теперь он, кажется, понял разговор медных братьев), Литтлмена обожгла необъяснимая слепая радость.
Что-то случилось! Что-то с ним произошло, пока он, как все люди, преодолевал во сне пустыню ночи — такую же бессмысленную, как и пустыня дня, страшную своей заданностью: завтра, как всегда, затарахтит будильник, надо будет варить кофе, жарить яичницу и поглядывать на часы, чтобы не опоздать в свой универсальный магазин. В том смысле свой, что они с напарником еще каким-то чудом успевают принимать, размещать и доставлять товары в торговый зал и что их еще до сих пор не вышвырнули на улицу.
Литтлмен не знал, в чем заключается перемена в нем, но прошлая жизнь с ее одуряюще однообразной службой, постоянным безденежьем и скудностью, точнее, полным отсутствием событий и радостей вдруг показалась ему до отвращения никчемной и пустой. Долой ее! Долой постылый магазин и эту комнатушку, запруженную тараканами. Да и сам городок. Убогий и до одури провинциальный. Зачем он в нем живет? Есть ли хоть тень смысла в тех двенадцати годах, которые он разменял здесь на ничего не стоящую мелочь дней?!
Ему захотелось действия. Немедленного, конкретного действия.
Литтлмен надел брюки и спортивную куртку, достал из-под кровати желтый мягкий чемодан и стал собирать вещи. Их оказалось на удивление мало — два костюма, рубашки, белье, бритва, несколько книг, которые он подобрал в магазине — забыл кто-то из покупателей. Будильник Литтлмен, улыбнувшись, выбросил в мусорное ведро.
Он не стал будить хозяйку. Положил ключ на расшатанную ступеньку, вышел во двор. Записки он тоже не оставил. Ни к чему. Он никому ничего не должен и никогда сюда не вернется. Литтлмен не знал, откуда эта уверенность, как и необъяснимая потребность бросить все и немедленно отправиться в соседний городок.
На улицах было тихо. Слишком рано, никто еще не вставал. Через пару часов можно будет проголосовать или остановить автобус. А пока… Вот шоссе, соединяющее два заштатных городка, вот ноги. Литтлмен шел быстро, и вскоре очертания сонных домов исчезли в предутренней дымке. Осталась пустынная дорога, редкие кусты, еще по ночному хмурые и сутулые, да росная трава на обочине.