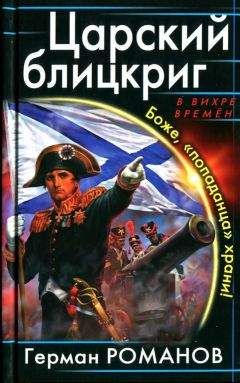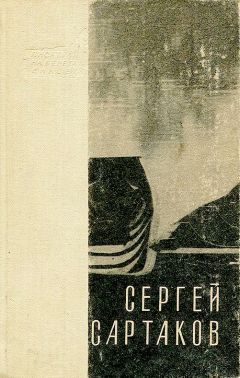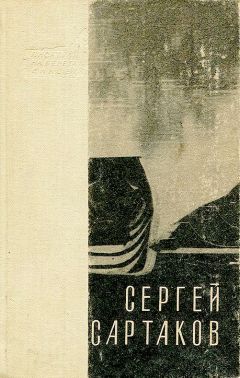— Вот что, Сеньша! Беги к алеутам! Там малый коч стоит! В Петровске должны знать, что здесь тати лютуют, пусть шлюпы воинские на розыск вышлют. Ты меня понял, паря?!
— А что я…
— А то, — взревел некормленым медведем старый казак, — юн ты еще, и хуже нас стреляешь. Зряшно погибнешь только! Их в лодках битком набито, десятка три, если не больше. Не устоим мы, ибо ведают ухари про государев амбар, за шкурками и пришли. Потому воеводу упредить нужно, чтоб меры предпринял и их отсюда уже не выпустил. А то они другим разбойникам сюда дорожку протопчут и не посмотрят, что волны кругом.
Урядник улыбнулся своей незамысловатой шутке, крепкими руками обнял племянника и, развернув его, толкнул.
— Бегом беги, каждая секунда дорога! Это мой приказ тебе, и ты должен его исполнить кровь из носу. Бегом, казак!
Юноша, подхлестнутый свирепой командой старого урядника, резво рванул с места, крепко держа ружье и ловко перепрыгивая с камня на камень. И вскоре скрылся за скалой.
— Прощай, племяш, — тихо прошептал старик, но вот потерянным он не был. Глаза засветились пронзительным огнем, крепкое, отнюдь не старческое тело подобралось, и он упругим шагом, что называют волчьим, быстро вошел в блокгауз.
— Когда стрелять-то, Тимофей Иннокентьевич, прикажешь? Близко лодьи воровские подплыли, — встретили его вопросом казаки.
— А вот сейчас и зачнем их пулями метить, но токмо по моей команде. Издали бить начали бы, так попасть трудно, а они — пушками. А так идут безбоязненно, сторожку не блюдут. На сотне шагов мы их пометим. Ты, Ваньша, по второй стреляй, а мы по первой палить будем. Окропим волны красненьким, пусть знают, как в гости незваными хаживать!
Урядник высунул в амбразуру ружье, прижал приклад к плечу и прицелился в уже ясно видного плечистого бородача в сером кафтанчике, голова которого была обвязана красным платком. Пират энергично размахивал рукою, отбивая счет гребцам.
— Пали по ворогу, робяты! — громко скомандовал урядник и плавно потянул пальцем спусковой крючок. Винтовка оглушительно бабахнула, приклад толкнулся в плечо. Барабан со скрипом повернулся, ставя новый патрон перед стволом. А дым уже рассеялся, и урядник усмехнулся — бородач свалился за борт, только брызги во все стороны разлетелись. Еще одному пирату разнесло буйную голову — пули у «кулибинок» тяжелые.
— Пали каждый по себе, казаки. К берегу татей подпускать нельзя, острожек свой тогда не удержим! Слишком много их в лодки набилось. Пали, с нами Пресвятая Богородица!
День второй
28 июня 1797 года
Босфор
Яркие звезды отражались маленькими серебристыми пятнышками, будто щедро рассыпанные из кошелька монеты, на свинцовой глади пролива, завораживая, притягивая взор.
Но сейчас тайно крадущимся русским было не до красот — беззвучные черные тени скользили без шепота и звука, на тусклых стволах и зачерненных клинках не играло своими лунными блесками ночное светило.
Капитан первого ранга Михаил Максимов очень осторожно спрыгнул, не хватало сейчас повредить ногу, на утрамбованный до каменной твердости пол, подняв над головой руку.
Сигнал увидели — зря, что ли, полурота отчаянных морских пехотинцев перед этой ночью два пуда конфет с сахаром употребила — сладкое способствует ночному зрению.
— Что там?
— Спали все…
Со сдерживаемым смешком, в котором чувствовалось немалое облегчение, донесся тихий шепот, и офицер тоже усмехнулся в ответ, понимая, что продолжения не последует — вырезали вначале караульных, а потом и весь гарнизон берегового форта без звука; никто из османов и не пикнул.
Такая нарочитая безмятежность врага его бы в другое время насторожила, но моряк давно и хорошо знал османов — яростные до упоения в бою, но абсолютно беспечные ночами, их можно было брать голыми руками, что сейчас и продемонстрировали высадившиеся на берег диверсанты. Хотя вряд ли многие из них и слыхивали о таком слове.
Да турки и не смогли бы закупорить пролив с форта!
Укрепления вызвали у битого морского волка мысленный смех. Глинобитные стенки, а то и просто сложенные без раствора камни, пушки времен Крымских походов князя Голицына, разнотипные, а то и более ранние, перетянутые обручами, как в эпоху царя Ивана Грозного.
У некоторых из них, с короткими стволами, но широченными жерлами (голову можно спокойно просунуть, и еще место для кулака останется), лежали большие каменные, хорошо обтесанные шары. Да, если такое прилетит, то корабельный борт проломит запросто. Но будь это нормальная бомба, то та просто любой линейный корабль если бы не уничтожила одним махом, вызвав взрыв крюйт-камеры, то вывела бы махом из строя, устроив на борту знатный пожар.
Но скорее произошло бы первое — тут Максимов вспомнил, как много лет тому назад прицепленные им, тогда еще молодым мичманом, с капитан-лейтенантом Хорошкиным к днищу турецкого корабля в Очаковском лимане мины вызвали именно такой взрыв, почти мгновенно потопив линкор, — детонация крюйт-камеры — штука страшная.
— Сигнальщикам в дело, — тихо приказал офицер, и три тени беззвучно проскочили мимо него, держа большие короба в руках, и вскоре короткие яркие вспышки ушли в сторону моря.
Максимов прислушался, чувствуя всей спиной порывы ветра. Погода явно благоволила к ним — ветер шел в море, а не наоборот, что было намного хуже. Потому что, несмотря на эти порывы, он расслышал из темноты неясный шум, более всего напоминающий грохот паровых двигателей. Это русский флот шел в вожделенный Босфорский пролив…
Адрианополь
Пушки дружно рявкнули, выпустив длинные клубы дыма и подпрыгнув на месте. Канониры тут же подскочили к орудиям.
Раз — замки раскрыты и отошли в сторону, жестяная гильза упала на землю, звякнув о груду таких же, небрежно отодвинутых ногой — чтоб не мешали.
Два — цилиндр картечи заслан в ствол, за ним последовала жестянка порохового картуза.
Три — с лязгом закрыт замок, до щелчка. И звонкие возбужденные голоса тут же доложили, сдерживая в себе бешенство боя:
— Первое готово!
— Второе готово!
Молодой поручик прищуренными глазами посмотрел на катящуюся пеструю толпу, распаленную от пролитой крови и запаха пороха и смерти — янычары без страха накатывались на невысокий вал, откуда продолжали стрелять русские, окруженные со всех сторон.
— Выстрел!
Пушки тут же оглушительно рявкнули — снопы картечи со ста шагов разворотили наступающих толпою османов. Десятки турок повалились на землю, по телам, вопящим от смертельной боли, тут же полезли другие, затаптывая мертвых и раненых.
Константин Петрович с ледяным хладнокровием отстраненно наблюдал за этой бойней сверху. Не до того царевичу было — громко сквернословя, он забивал магазин винтовки патронами, проклиная, что Кулибин сделал его только на шесть патронов.
— Первые ружья вообще на четыре патрона были, ваше высочество!
Голос хорунжего конвоя был на удивление спокоен, но сам казак был залит кровью, своей и чужой, от головы до пят, ухитрившись потерять половину своей бороды. Как и где — этого Константин припомнить не мог, но вроде бы порохом сожгло.
— Гранаты к бою!
Звонкая команда прокатилась по окружившим пушки гренадерам, но лишь немногие, не больше десятка, достали из сумок тяжелые цилиндры на длинных ручках — «толкушки», как они назывались в обиходе. И вот они, кувыркаясь и испуская дым, полетели в набегающую толпу.
— Укройся! — последовала запоздавшая команда, и царевич присел за высоким бруствером, сложенным из человеческих тел — меньше в защитных русских мундирах и намного больше в пестрых рубашках и шальварах. Но сейчас один цвет превалировал на истерзанных пулями и осколками телах — алый, цвет обильно пролитой крови.
Царевич пригнул голову, хоть и защищенную доброй железной каской, но получить лишний осколок до звона в ушах он не желал. И в ноздри, забитые пороховым дымом, тут же ворвался другой запах — сладкий, выворачивающий душу наизнанку вкус смерти и тлена. И немудрено — бой шел уже чуть ли не сутки, а жара стояла несусветная.
Взрывы чуть тряхнули «бруствер», горячий воздух ожег лицо. Константин Петрович положил винтовку на лежащее сверху тело и выстрелил.
Он не целился — промахнуться с трех десятков шагов по вопящей от ярости человеческой стене просто невозможно. Рядом с ним палили гренадеры и канониры, лихорадочно передергивая затворы.
Прямо на глазах турки валились снопами, но места павших тут же занимали другие, такие же свирепые. Он дослал затвор, потянул за спусковой крючок — сухо щелкнуло, без выстрела. Царевич похолодел — патроны кончились, теперь врага не остановить.
Но вместо страха в душе появилось отчаянное веселье, оно забурлило и выплеснулось лихой решимостью — ну, что ж, нет пана, тогда пропал, но чтоб врагу тошно стало!