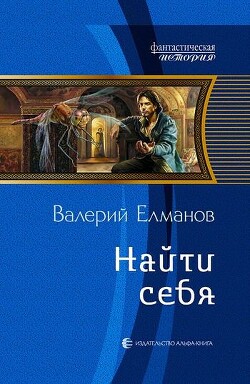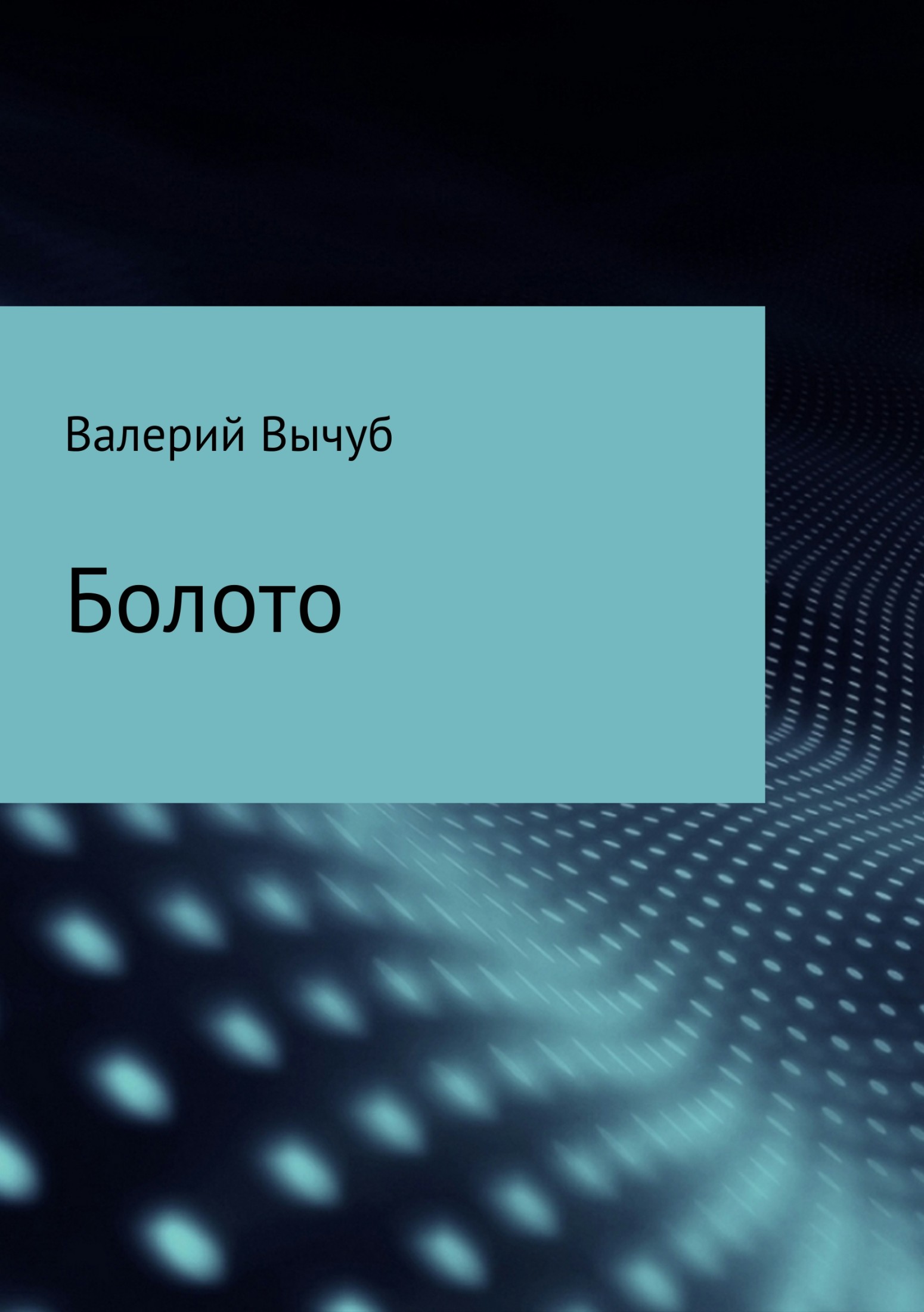– Погоди с троганьем,– остановил я его, всей шкурой ощущая ласковое, еле слышное прикосновение удачи – учитель к царевичу, шутка ли, если получится поставить его на ноги, то тут крылись такие радужные перспективы, что... Нет, неожиданно возникшую возможность упускать ни в коем случае нельзя. Хотя, если верить купцу, парень все равно умирает...
Если верить...
А если нет...
А если...
– Чего еще? – недовольно отозвался Федул.
– У меня тут знахарка славная. Все травы ей ведомы. Пусть поглядит. Авось на погляд времени много не надо, а вдруг человека спасет.
– И так уж припозднились,– неуверенно произнес купец.
– А ты про то, что христианин, только в церкви вспоминаешь, когда поклоны бьешь? – ехидно осведомился я.– Там ведь душа христианская помирает, и речь не о серебре и даже не о дне идет – об одном часе.
– Во Христа я верую,– обиделся Федул.
– Тогда,– отчеканил я,– вспомни, что в Библии сказано: «Вера без дел мертва есть». И коль ты такой малости болезному не уделишь, стало быть, мертва твоя вера!
– Да я что же, нешто не понимаю,– сконфузился купец,– чай, и крест на груди ношу, и нищих... у церкви... всякий раз...
Но я уже не слушал его, припустившись к своим саням, где позади угрюмого возчика сидела тепло укутанная Марья.
– Эй, как там тебя,– окликнул я по пути лекаря.
Тот обернулся.
– Сейчас к больному пойдем и глянем вместе, как он и что. Погоди, я один момент! Авось залатаем хворь.
Оптимизм в ореоле ярких радужных брызг сверкающей надежды овевал мое разгоряченное лицо... Целых двадцать минут овевал. До того момента, пока мы не увидели болезного.
Однако диагноз, который поставила Марья, оказался неутешителен.
– Не жилец,– буркнула она.
– Ты не ошиблась? – переспросил я.
Та в ответ возмущенно сверкнула глазами.
– Тут тебе любой скажет тако же. Глякось, яко носок у его заострился. Опять же синь смертная на всем лике. Ежели хошь, даже поведаю, егда он богу душу отдаст. К завтрему, на рассвете. Хотя, можа, и в ночь,– задумчиво поправилась она,– у его силов-то вовсе нетути, чтоб с костлявой бой учинить, потому могет и поране вознестись. Так что тут не я нужна, а поп.
Я уныло вздохнул. Авторитету Марьи оснований не верить не было. Получается, не судьба. В это время умирающий дернулся и что-то негромко нараспев произнес:
– Pure, naked wind, hardened by its own concentrated strength [30].
– Матерь, поди, свою вспоминает,– предположила Марья.
– No, то не матерь,– поправил ее лекарь,– то вирши.
– Вирши? – обалдел я и даже поначалу решил, что ослышался.
– Yes, вирши,– подтвердил лекарь Арнольд Листелл, с которым я успел познакомиться, пока мы шли к больному.– Мой Квентин есть пиит. Он все время слагает вирши о ваш страна. Это такой слог, чтоб складно звучать,– начал он пояснять, но я только досадливо отмахнулся.
Сам не знаю, что кольнуло меня в сердце. Блин, может, это второй Лермонтов – его предки вроде бы тоже из тех краев, и тут такая бездарная смерть. Хотя нет, если судить по времени, то скорее первый. И тут же волной понеслось продолжение невольно возникшей ассоциации: Пушкин, Некрасов, Тютчев, поэты Серебряного века, Брюсов, Белый, Блок, Есенин и далее галопом через Маяковского прямиком к Высоцкому, Окуджаве, Вознесенскому, Асадову, Федорову, а вот уже наши дни, и я на концерте Сергея Трофимова наслаждаюсь его песнями... Вот дьявольщина. А ведь возможно, что этот умирающий – самый первый бард, посетивший русскую землю. Да еще такой молодой...
Нет, нельзя оставлять поэтов в беде, тем более что их век и так недолог, и я вновь повернулся к Марье.
– Слыхала, что этот Листелл сказал? Пиит этот Квинт, то есть Квентин. Надо бы помочь.
– А как?
– Ты ж меня тоже с того света вытащила, сама ведь говорила, неужто с ним не получится?
– И ты б помер, коль за денек до того у камня не посидел,– вздохнула Марья и полюбопытствовала: – А чего енто за вирш такой?
– Пиит он. По-нашему поэт. Ну вроде гусляра. Да сейчас это неважно. Я потом объясню. Погоди, ты говоришь – у камня... Ты лучше скажи...– начал я и остановился от осенившей меня мысли.– А если и его к камню доставить?
– Тады не ведаю. Хотя все одно. Эвон он какой, довезем ли? – усомнилась Марья.
– Должны довезти,– твердо сказал я.– Надо, значит, довезем.
– И с камнем тоже не ведаю, яко оно выйдет,– добавила Марья.– По первости Световид. Дозволит али как? Ты ведаешь?
– Дозволит,– процедил я сквозь зубы.– Я его очень сильно попрошу.
– Иное возьми – басурманин ентот, кой с болезным. Везти его к камню никак нельзя, стало быть, надобно, чтоб он нам его на лечбу отдал.
– Отдаст,– кивнул я, прикидывая, как получше все обстряпать.– Отдаст и никуда не денется. Да мы, если уж на то пошло, его и спрашивать не станем.
– Как енто?
– А так. Тут я все на себя беру,– заверил я.– Еще какие проблемы?
– А ежели все одно запоздаем, да он еще на пути к камню, егда его уже туда понесут, волей божией помре? Али еще ранее растрясет? И кому тогда за енто ответ держати? А ведь он к царю путь держит, о том помысли.
– Риск – дело благородное,– отчаянно тряхнул я головой.
Марья вновь с сомнением уставилась на больного. Тот, словно почувствовав на себе ее взгляд, дернулся и вновь что-то нараспев произнес:
– The frozen woods and flowers from an unfamiliar, magical world were strewn ower [31]…
– Чего это он? – опасливо оглянулась Марья на Арнольда.
– Пиит,– пожал плечами тот.– He live entirely in his poetry [32].
– Ты не буробай туть, а толком поведай: чего сказывает-то?
– Легли... замороженные... леса и цветы... неизвестной волшебной... страны,– то и дело запинаясь, с грехом пополам перевел лекарь.
– Эва,– изумленно поднялись брови Марьи.– Красно как сказывает-то, заслухаешься. А куда же легли-то? И что за сторонушка?
– Куда легли – наверное, не успел придумать,– пожал плечами Арнольд.– А сторона... То он о Руси.
– Вона как, о Руси,– протянула Марья и гаркнула на опешившего от такой перемены настроения лекаря: – Ну, чего встал, яко пень дубовый! Беги за людями, чтоб до саней донесли!
– Не надо,– внес я поправку.– Сами дотащим, чтоб время не терять.– И пояснил вконец растерявшемуся лекарю: – Лечить будем! Иначе он покойник. Понял?
Тот торопливо закивал головой.
– Тогда хватай его за ноги,– скомандовал я,– хотя подожди, куда тебе, дохляку. Давай лучше я сам.– И, бережно подхватив больного на руки, понес на улицу.
– Он выздоровать? Вы его смочь лечить? – бестолково путался под ногами Арнольд.
– Смочь, смочь,– пыхтел я.
– As if nature too was longing for a greater happiness [33],– выдал мне пиит почти в самое ухо.
– А как же, вполне натурально оклемаешься, так что хэппи-энд тебе обеспечен,– подтвердил я, уловив в конце его фразы знакомое слово.
– Вы не дать ему to die quickly, have a quick death? [34] – не отставал Листелл.
– О боже,– проворчал я,– ну прямо тебе окрестности Бирмингема какого-то, прости меня господи на матерном слове. Да не дать, не дать, угомонись только.
Но если заткнуть рот Арнольду было проще, благо что мы его безжалостно изгнали из наших саней, ибо для пятерых было бы слишком тесно, то с поэтом, который никак не желал уняться, оказалось посложнее. Правда, лепетал он все тише и тише, чуть ли не шепотом.
«Ну и ладно, пусть себе бормочет»,– решил я, тем более что был слишком занят ответственной миссией – Марья наказала мне всю дорогу непременно держать болезного за руку. Так мы и катили – Алеха с вожжами спереди, а я со знахаркой позади, по бокам от англичанина, крепко держа его за руки.