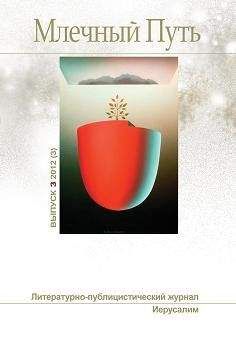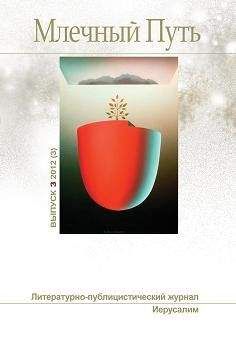ловко увернувшись от броска, подбирает упавший кубок с мягкого персидского ковра, устилающего цветастый мозаичный пол. – Какие будут на сегодня приказания, доминус? Приготовить тебе прохладную ванну?
– Пошел вон!!! – вопит Цезарь, теряя всякое самообладание, и раб удаляется, согнувшись в поклоне, но с тем же язвительным выражением на физиономии.
Что за распустившаяся, невыносимая тварь! Содрать бы с него кожу или распять, бросить бы гепардам и львам, благо, тут целый зверинец в клетках, провались он в свой Аид, этот проклятый грек, провались он еще дальше, потому что, конечно же, ехидный мерзавец опять прав!
С женским полом Цезарь неплохо научился обращаться, но что прикажете делать со влюбленным мужчиной, тем более, если это непривыкший получать отказов царь?
В огорчении Цезарь заваливается на постель и колотит кулаком по подушке, это мягчайшая вышитая подушка, набитая пухом и розовыми лепестками, проклятье, это – женская подушка! Он предпочел бы обычную – жесткую, кожаную, походную, он предпочел бы оказаться в штабе пропретора, куда уехал, спасаясь от гнева Суллы, когда отказался развестись по требованию диктатора со своей женой, едва не поплатившись за это жизнью, не потому, что так уж любит Корнелию, а потому, что ненавидит, когда кто-то пытается им распоряжаться. Он не намерен склоняться ни перед кем – тиранами, султанами, царями, Мегера разбери, кем! Опустишься однажды, больше не сможешь подняться, станешь мальчиком для утех, ни за что не отмоешься от такого пятна, не дай боги, пойдут слухи и донесутся до Рима, что за наказание и злосчастье…
Оборвав усилием воли безобразную истерику, он поднимается на ноги и выходит на балкон, чтобы глотнуть воздуха и развеяться.
Близится вечер, небо сгущается на западе лиловым, но предзакатное солнце еще пышет жаром. С моря тянется легкий бриз, зовущий отправиться к воде и искупаться, смыв с себя заботы, тревоги и неподобающую мальчишескую злость.
Цезарь хотел бы вскочить на коня и в одиночестве поехать на прогулку, как простой горожанин.
Шумная свита и вооруженное сопровождение охраны ему не нужны, хватит и собственного меча, чтобы постоять за себя. Теперь он умеет по-настоящему колоть, и резать, и протыкать, и проливать кровь, хоть пока и не привык к ее виду, но, должно быть, это еще впереди, ко всему ведь можно привыкнуть.
Странная мысль вдруг посещает его: похожа ли собственная кровь на чужую?
– Своя кровь должна казаться ярче, – шепчет он, глядя на алую рану заката, – и ты не поверишь в нее, она удивит тебя, как ребенка…
Он встряхивает головой, отгоняя видение своей крови.
Улицы города заметены пылью и запорошены песком, словно серой вуалью, а в великолепном дворце с толстыми каменными стенами свежо и прохладно, но его роскошь – душная, вязкая, как смола, она давит на плечи слишком тесным объятием, которого ты вовсе не жаждешь.
Никомед не отпускает Цезаря от себя, желает видеть его каждый день, а Косма намекает, что к этому прибавятся ночи, будто вифиниец имеет дело не с женатым взрослым римлянином, а с рабом-катамитом {9}. Послать бы все к фуриям и умчаться подальше!
Только никуда он не поедет. На вечернем пиру царь будет ожидать от него исполнения обязанностей виночерпия. Странная должность для римского патриция, вызвавшая множество толков и недовольства среди местных придворных честолюбцев. Но назначение виночерпием один из подарков Никомеда, а от даров царей не отказываются.
Цезарь вспоминает, как зашвырнул в Косму золотым кубком.
Знал бы Никомед, как непочтительно обошлись с его даром! Думая об этом, Цезарь невольно посмеивается и чувствует себя очень молодым, а это так не на руку ему, так не на руку! Пусть даже Сулла польстил ему, сказав своим сторонникам: «Остерегайтесь мальчишки, в этом Цезаре сидят сотни Мариев», но кто знает в Вифинии о римских делах?
Италия далеко, с просторного балкона дворца, поднимающегося выше любых римских зданий, распахивается перед Цезарем чужая страна, выпеченная под беспощадным солнцем. Краски здесь броские, зелень сочнее и гуще италийской, побережье топорщится пальмовыми опахалами, а море теплое, как травяной настой, и ленивое, как царская наложница.
В Вифинии все делается медленнее, чем в Риме, сама жизнь идет в полусонном ритме, нежась на шелковых подушках.
Цезарь приехал сюда, и его кожа вдруг стала казаться слишком бледной, а глаза слишком светлыми, лишь голос звучал громче и резче, чем плавно текущие местные речи, вычурные и льстивые настолько, что от их сладости склеивает зубы. Он уставал от славословий, но научился подражать им, к вящему довольству царя:
– О, повелитель, позволь облобызать землю у твоих ног! Блистательный, как множество солнц на восходе! Чем я могу услужить тебе сегодня?
Было ошибкой вести себя так, следовало держаться строже, напоминая о своем происхождении и не изменяя обычаям Рима. Не станет римлянин целовать землю ни перед чьими ногами! Но ему хотелось угодить, понравиться, произвести благоприятное впечатление и обрести могущественного покровителя на Востоке. И вот обрел на свою голову, спасибо злым духам.
Зато ему удалось выполнить приказ римского наместника в Азии пропретора Марка Терма, доверившего ему переговоры с царем. Теперь корабли Никомеда отправятся на остров Лесбос, чтобы помочь Терму сломить сопротивление Мителены. Пропретор получит флот, царь – почетный титул Друга римского народа, и Цезарь наверняка получит военную награду и первую славу. Он умеет быть очень убедительным! Интересно, в чем бы еще он мог убедить Никомеда?
Он скользит взглядом по линии горизонта, искривленной хребтами гор, падающее солнце озаряет их, как золотой царский венец.
Если позволить утонуть взору в этой бескрайней дали, если долго вглядываться в плотное небо, усыпанное рыжими перьями заката, то начинает мерещиться всякое: стройные ряды конницы и пешие воины, наконечники копий и заостренных металлических шлемов, холодное сияние щитов и мечей, без счета загорелых черноглазых лиц, без счета топающих ног, шагающих на запад…
Армия.
Войска, с которыми можно будет выступить на Рим против Суллы, что выгнал Цезаря из Города, отнял имение и вынудил спасаться бегством в Азию.
Если он пообещает Никомеду часть того влияния, которое получит в Италии, если посулит помощь в борьбе с врагами Вифинии, если закрепит их союз не только на ложе, но и на бумаге, царь мог бы дать ему настоящее войско.
Он бы обошелся с таким подарком не так, как с брошенным кубком, армию бы он холил и лелеял, и она не стоила бы ему ни сестерция.
Цезарь пробует на вкус тягучую сладость соблазна.
– Отравленный мед, – придумывает он поэтический оборот. – Один раз