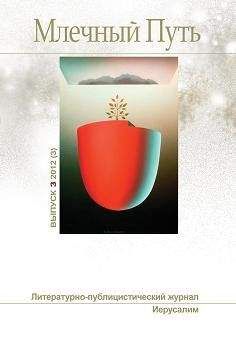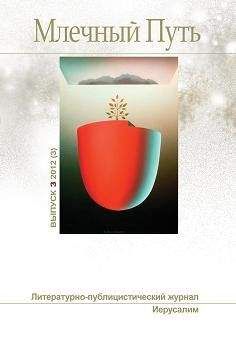упаду, не смогу подняться.
Проглотив тяжкий вздох, он зовет Косму, который всегда оказывается где-то рядом, и велит помочь переодеться для пира в шитые серебром многослойные одежды с богатой бахромой понизу и шелковым кушаком. Как не похоже на простую римскую тунику. Цезарь досадливо морщится, но усмиряет свое лицо, принимающее спокойное, благожелательное выражение вежливого гостя и усердного слуги.
– Что, выгляжу я юным Ганимедом, божественным виночерпием и возлюбленным своего господина? – осведомляется он хмуро.
– Нет, – отвечает Косма, – внутри ты носишь другой наряд.
Цезарь незаметно улыбается и уходит туда, где должен сейчас быть.
Эти дворцовые своды – всего лишь одно из многих мест.
Mare internum
Синий клубок моря, сплетенного с небом, разматывается и разматывается до бесконечности сквозь крошечное окошко трюма. В каюте несет рыбой, тиной и просоленной сыростью.
В дополнение к морской отрыжке имеется и другая вонь: Косма с позеленевшей физиономией склонился над ведром, беднягу жестоко тошнит. Раб плохо переносит качку, страшно и представить, что бы с ним стало, не иди корабль по гладкой воде на веслах, а подгоняй его буйный ветер, вздувающий пузырями паруса.
Цезарь чувствует себя прекрасно, он вынослив во всем за вычетом своей болезни. Немного кружится голова, но он старается не обращать на это внимания.
Придвинув к узкой скамье, на которую уселся, огромный сундук со своими вещами, он погружен в поиски свитков с недавно начатыми первыми записями. Пока это беглые наброски впечатлений о Вифинии, черновики речей и планов, отрывки туманных рассуждений о государственном устройстве и мироздании. Не перевернись все во время нападения вверх дном, свитки лежали бы в полном порядке аккуратно уложенными сверху. Теперь они валяются в куче скомканной одежды и, как назло, в самой глубине. Сколько у него туник, плащей, тог и прочего тряпья, подумать только! Следовало бы приказать заняться поисками рабу, но Косму нельзя разлучать с ведром, это чревато дурными последствиями.
Из угла раздается придушенный вопль, исполненный невыразимого страдания.
– Приободрись! – советует слуге Цезарь. – Мы вскоре прибудем на место, где нас высадят дожидаться выкупа. Жаль только, не попадем на Родос, куда я так стремился, чтобы изучать ораторское искусство.
– Нет, это плаванье никогда не закончится, – стенает раб. – О, великий Посейдон, за что ты так наказываешь меня?!
– Зато ты жив. Возблагодарим за это людскую жадность.
– Я предпочел бы умереть! На водах Леты не будет такой ужасной качки.
– Стоит только сообщить твое желание нашим гостеприимным хозяевам, и за этим дело не станет. Лучше держи свой рот на замке.
– Я не могу держать его на замке! Мое естество противится этому, моя бедная утроба протестует. Чую, близок мой конец!
– Для умирающего ты слишком разговорчив, – усмехается Цезарь. – До чего же ты неблагодарен, Косма! Тебе бы плясать от радости, что пираты согласились пощадить твою никчемную жизнь. К слову, ты обошелся мне в целый талант. Похоже, ты самый дорогой раб на свете, о болтливейший из греков.
– Позволь мне поцеловать твои ноги, щедрейший и милостивейший из римлян, – предлагает Косма не совсем исполненным благоговения тоном и делает опасное поползновение в сторону хозяина.
– Сейчас не стоит, – хмыкает Цезарь, нащупывая свиток в ворохе одежды. – Ага, нашел!
– Зачем это надо? – спрашивает раб, изнеможенно откидываясь на стену трюма, его бледное лицо покрыто испариной и похоже на комок сырого теста, волосы слиплись, вид у него самый жалкий.
– Меня пригласили на ужин, – отвечает Цезарь, пробегаясь взглядом по строчкам, он может читать и говорить одновременно, он может думать об одном и говорить о другом, и он может улыбаться за ужином, строя планы, которые не понравятся тем, кому он рассыпает улыбки. – Капитан даже обещал подать фалернское вино, которое они у нас забрали. Для разбойника у него недурные манеры. Я решил, если они будут со мной хорошо обращаться, когда я соберу в Милете флот и разгромлю пиратов, то обойдусь с ними великодушно.
– О великие боги, наши жизни висят на одной нити, и неизвестно, когда будет собран такой большой выкуп и доставят ли его раньше, чем нам перережут глотки, а мы уже успели возглавить флот, – бурчит Косма. – Почему бы нам не покорить Парфию, пока мы сидим здесь?
– Замолчи, дурак, – бросает Цезарь беззлобно.
– Слушаюсь, доминус. Но, прежде чем дурак замолчит, дозволено ли будет ему узнать, зачем господин искал свои записи?
– А затем, что я намерен заняться декламацией и заставить захвативших нас негодяев внимать мне безотрывно, смеясь, восхищаясь и ужасаясь в нужных местах. Я хотел учиться красноречию у Апполония Молона, но Фортуна забросила меня к этим людям, значит, буду изучать силу слова на них. Ты же не думаешь, что я стану праздно проводить время в ожидании спасения, когда жизнь столь коротка?
Косма распахивает воспаленные слезящиеся глаза, словно не может поверить услышанному, и увиденному и в самого Цезаря, отказывающегося признать давление обстоятельств и смириться с создавшимся положением, как сделали бы другие. Хозяин даже пытается извлечь из неудачи выгоду, будто бросает богам вызов.
Раб ложится на скользкие подгнивающие доски и горестно стонет, отдаваясь своему несчастью. Он мечтает только о том, чтобы потолок прекратил вертеться перед глазами, как обезумевшая пьяная вакханка. Его мечты ужаты до размеров убогого вонючего трюма, мечты же его хозяина всегда выходят за пределы пространства, в котором тот находится.
Цезарь смотрит на Косму со снисходительной улыбкой и возвращается к чтению, отмечая удачные сравнения и эпитеты.
Нептун надувает щеки и посылает сквозь оконце соленый прохладный ветерок, дышать в трюме становится легче.
Смерть неторопливо прохаживается там, где ей место – среди людей. На палубе, где налегают на весла гребцы. На носу корабля, откуда всматривается в очертания приближающегося острова капитан с недурными манерами и со вспарывающим, как кинжал, взглядом убийцы. За ужином пираты могут налечь на вино и забыть о золоте, жажда развлечения иногда пересиливает жажду наживы, а выкуп в двадцать один талант действительно столь велик, что неизвестно, смогут ли его собрать небогатые родственники Цезаря.
Ему следовало бы молиться, но он просит не снисхождения, а задает вопрос, спрашивая единственного бога, в которого действительно верит.
Волоски на шее приподнимаются, но это не прохладный ветер, а дыхание и шепот, раздающийся прямо у Цезаря в голове. Не болезнь ли открывает в его разуме врата, сквозь которые приходит к нему неведомое?