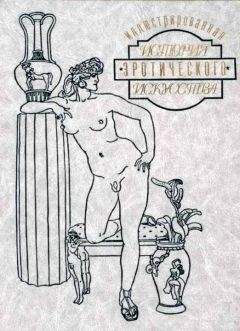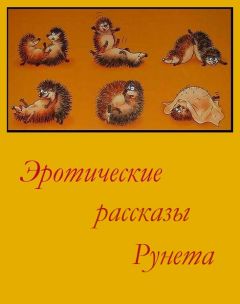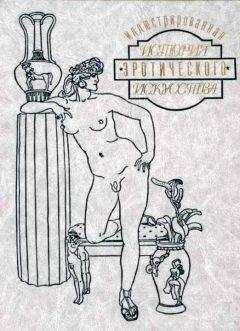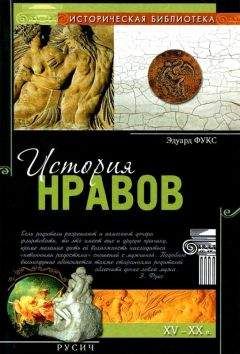«Каждый день папа устраивал у себя танцы или другие празднества, в которых принимали участие молодые девушки. Цезарь и Лукреция присутствовали на одном из таких празднеств 27 октября 1501 года, хотя Лукреция с 15 сентября этого года была уже замужем за герцогом Альфонсом. После ужина, в котором принимал участие сам папа, в залу впустили около пятидесяти куртизанок, которые и начали танцевать со слугами и с приглашенными гостями; вначале они были одеты, но понемногу стали разоблачаться. На полу расставили огромные канделябры, ярко освещавшие оргию. Папа, его сын, герцог и дочь Лукреция бросали в толпу танцующих каштаны и забавлялись тем, как те дрались из-за них и ссорились. Наконец для увенчания пиршества папа придумал другую игру: любовные состязания, победители которых кроме обладания женщинами получали еще особые подарки».
В другом месте Буркгардт сообщает, что одним из любимейших удовольствий Александра VI было смотреть вместе с дочерью из окон Ватикана, как на дворе «конюхи случали кобыл и жеребцов». Мы не имеем решительно никаких оснований относиться с недоверием к сообщениям Буркгардта, — наоборот, сотни документов, надежность которых не может подлежать ни малейшему сомнению, подтверждают эти сообщения. Что же следует из них? — должны мы задаться вопросом. Из них следует нечто поистине невероятное, нечто, что никогда не могли бы допустить современные моральные представления и что прямо противоречит нашему социальному инстинкту. Возьмем хотя бы одну фразу из сообщения Буркгардта, — правда, самую важную, — ту, в которой он говорит, что для увенчания пиршества папа придумал любовные состязания. Что это значит? Да не что иное, как то, что самое интимное между двумя людьми разного пола становилось здесь публичным зрелищем, на которое смотрели, как смотрят сейчас на конские состязания, и что к этому интимному применяли тот же масштаб и точно так же награждали победителя, как награждают сейчас победителя каких-нибудь гонок. Наиболее возвышенный и величественный элемент человеческого утверждения жизни не только унижался, — он буквально втаптывался в грязь, ибо прославленным победителем считался тот, кто оказывался самым неутомимым и ненасытным в чисто животной похоти. Самое отвратительное, самое грязное, самое возмутительное и самое низменное устраивалось таким образом для «увенчания пиршества». Понятое во всей своей широте, это заставляет нас предполагать наличие совершенно другой нравственной организации, с совершенно другими нормами, чем те, с которыми мы свыклись. Ибо то, что такое зрелище устраивалось на глазах у всего папского двора, превращает это сообщение в ценнейший документ общественной нравственности того времени.
Предположение, что это было лишь уродливым явлением, вполне естественным перед всяким коренным переворотом, несомненно, ошибочно. «Генрих, епископ базельский (1215–1238), — значится в вышеупомянутом фрагменте „De rebus Alsaticus“, — оставил после своей смерти 20 детей от различных матерей». Епископ льежский, Генрих (1280), уволенный Лионским собором, имел 60 детей. Не менее классическим образцом служит и папский секретарь Поджо, живший с 1380 по 1459 год. Поджо постарался как нельзя лучше воспользоваться половой свободой своего времени и оставил после себя 18 детей, из которых 14 было внебрачных. Записки Поджо представляют такой ценный документ истории нравов, равного которому мы положительно не знаем. Поджо сообщает, что записанное им представляет точное воспроизведение бесед, которые вплоть до смерти Мартина V (1431) велись ежедневно от 4–5 часов дня в одном из дворов папского дворца высшими служителями церкви. Если этим запискам придавать лишь ценность действительно точного воспроизведения образа мыслей высших служителей церкви, то и тогда их значение было бы весьма высоко; на самом же деле записки представляют собой изображение действительной жизни или, по крайней мере, состояние морали того времени.
Титульный лист французского издания «Истории Алоизии Сигеа». Ок. 1790.
Половая свобода этой революционной эпохи была исчерпана до самого дна. Прелюбодеяние было одним из самых повседневных явлений. Поэты и сочинители новелл восхваляли его как нечто прекрасное. Высшей доблестью считалось, если женщине, жаждавшей любви, удавалось разрушить предохранительные меры супруга и наперекор всем опасностям испить опьяняющий нектар физической любви помимо мужа с каким-нибудь смелым любовником, молодым духовником или случайным гостем. Об этом тогдашние поэты говорят с такой наивностью, словно это самая естественная и обыкновеннейшая вещь в мире. Женщины же, довольствующиеся объятиями только одного мужчины, выставляются зачастую глупенькими и простодушными. Относительно Италии нужно заметить, что со дня вступления в брак каждая женщина считалась совершенно доступной. Так как базисом брака в большинстве случаев была чувственность, то отсюда следует само собой, что женщина не только не занимала пассивного положения, но сама по собственной инициативе обсуждала вопрос, не получит ли она большую сумму наслаждений, если возьмет себе одного или нескольких любовников. Это казалось ей тем более естественным, чем больше ее физическую «потребность в любви» удовлетворяла потенция мужа. Тогда опять-таки из чувственного базиса брака вытекало, что неверность есть исключительно вопрос ее хитрости и ловкости и что мораль не играет здесь абсолютно никакой роли. В результате таких моральных представлений только тогда муж мог быть действительно уверен в супружеской верности жены, если самого его природа создала каким-нибудь особенным в деле любви. Только в этом случае он имел основание не опасаться соперников и спокойно заявлять им, что все их усилия тщетны. У Поджо имеется на этот счет чрезвычайно характерная новелла. Но страшно подумать, какое падение общественной нравственности отражается в таких произведениях эротического юмора. С другой стороны, однако, они служат наглядными доказательствами того, что мы в начале этой главы говорили относительно преобладающей тенденции, чувственной силы и что люди того времени были вулканами чувственного пламени, которые следовали только одному закону: велениям своих пламенных желаний.
Против этого можно было бы, пожалуй, возразить, что это лишь единичные примеры, что они не могут служить надежными показателями тогдашнего состояния общественной нравственности. Но такое возражение тотчас же отпадет, как только мы подтвердим сказанное общепринятыми и общераспространенными обычаями и привычками. Таким общепринятым обыкновением служило, например, упомянутое в предыдущей главе ношение поясов целомудрия. Начало этому обычаю положили, как мы знаем, средние века, но наибольшее распространение они получили именно в XVI столетии. Созданный грубо чувственной моралью рыцарства пояс целомудрия стал в эпоху Ренессанса общеупотребительным средством против супружеской измены. В пользу правильности выставленного нами выше взгляда на истинную цель и назначение этого стража целомудрия женщины, — цель эта, повторяем, заключалась в предохранении женщины от случайного и постоянно возможного совращения ее друзьями дома или в предотвращении возможности для женщины легко изменить мужу, — в пользу правильности такого взгляда говорит красноречиво тот факт, что наибольшим распространением в эпоху Ренессанса пояс Венеры пользовался в кругах городской буржуазии и патрициата. Ибо то, что здесь не имелись в виду никакие нападения, насилия и прочее, доказывается тем, что мораль эпохи давала мужу полное право всегда сомневаться в верности супруги.
Любопытное подтверждение только что сказанного содержится в знаменитых диалогах Алоизии Сигеа Меурзии,[7] которые в яркой, хотя, правда, весьма циничной форме, раскрывают перед нами всю разнузданную жизнь высших общественных кругов того времени. В этих диалогах пояс Венеры упоминается неоднократно. В одном из них речь идет о молодом супруге, который приглашает к себе в дом своего друга. Но для того чтобы обеспечить верность жены, он заказывает ей пояс целомудрия. В разговоре с ней он просит не чуждаться друга, а, наоборот, быть с ним возможно более приветливой и предупредительной. Только одного он опасается и потому хочет, чтобы она носила пояс Венеры. Другими словами, это означает, что гостеприимный супруг того времени ничего не имеет против или даже считает одной из обязанностей любезной хозяйки, чтобы она относилась предупредительно к галантным шуткам гостя. Он считает свою жену как бы объектом удовольствия, которым может забавляться гость, как ему нравится. Одно только конечное право хочет он обеспечить исключительно за собой. И такую гарантию может дать ему лишь пояс Венеры. Во всеоружии этой брони жена может не только любезно принимать конкретные изъявления галантности гостя, но и отвечать на них: опасность того, что возбуждение такой галантной игрой может заставить ее нарушить супружескую верность, совершенно устранена благодаря железному стражу ее целомудрия.