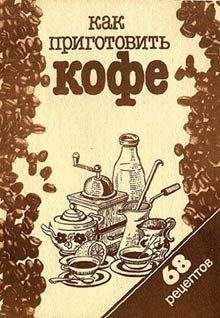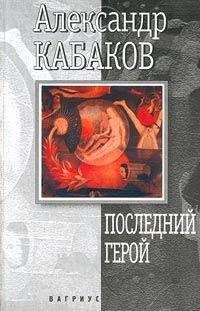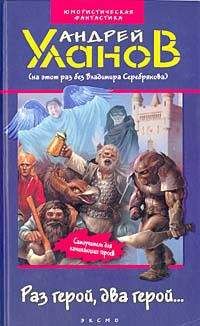— Почему нам нужно тащиться в такую чертову даль, — мрачно говорит Четвертый.
— Потому что там есть экспериментальные самцы, — невозмутимо отвечает Первый; он говорил это тысячу раз, но раздраженный Четвертый продолжает спрашивать. Ему не хочется ехать черт-те куда на черт-те сколько, у него молодая жена и масса дел. — Вы же знаете, экспериментальные случки можно проводить только на спецполигонах, это слишком опасно.
Четвертый что-то неразборчиво бурчит.
— Мы покормим их, когда тронемся, — говорит Второй.
Третий согласно кивает
* * *
По перрону идет Хансен. Ему нужен поезд № 17. У него нет билета на этот поезд, но у него есть льготный литер. Он может ехать любым поездом, и ему обязаны предоставить купе в штабном вагоне. Ему нужно попасть в Н., а поезд № 17 будет там через сорок часов. Это самый быстрый способ — и самый быстрый поезд. Он входит в купе Начальника поезда и предъявляет литер.
— Извините, — говорит Начальник, отдуваясь. Ему жарко, китель расстегнут, фуражка валяется в углу дивана. — Я не могу вас взять.
— У меня льготный литер, — цедит Хансен, с ненавистью глядя на одутловатое лицо. Он ненавидит быдло, потное, вонючее, расхлябанное быдло, он ненавидит их невнятную речь и бегающие глазки.
— Я понимаю, — говорит Начальник поезда. — Но в Штабном вагоне уже едут по классу «1 + 1».
Класс «1 + 1» — класс полного и приоритетного благоприятствования и строжайшей секретности. К тем, кто едет в Штабном по «1 + 1», нельзя никого подселять. Хансен это знает, но его это не устраивает.
— Я думаю, — говорит он, пытаясь подавить растущий гнев, — мы договоримся с теми офицерами, которые там едут.
Начальник поезда пожимает плечами.
— Не могу, — говорит он равнодушно. — Мне очень жаль.
«Ему очень жаль» взрывается в голове Хансена. Ему ТЕБЯ очень жаль. Не помня себя, он высвобождает одну руку из-под свертка, который прижимает к груди, и наотмашь бьет Начальника поезда в лицо. Начальник отлетает к окну, ударяется головой о край столика и замирает. Хансен выходит, печатая шаг, бормоча под нос: «Очень жаль». Он тихонько укачивает дышащий сверток, приговаривая: «Уже скоро». Штабной вагон он найдет и сам, это нетрудно. Будем надеяться, думает он, что те, кто там едут, будут посговорчивее. В конце концов, у него есть чем занять их на эти сорок часов. Вряд ли они когда-нибудь видели самца ручного пулемета. Милейшая тварь, если подумать, главное — не показывать самок.
Он находит Штабной вагон, заходит в него и первым делом разворачивает сверток. Ручной пулемет не может задохнуться, но Хансену все равно боязно. С тех пор как в детстве у него за пазухой задохнулся щенок, ему всегда боязно. Пулемет — первое существо за много лет, к которому он искренне привязался. Существо устало и раздражено, и Хансен гладит его лайковой рукой, пришептывая что-то успокоительное.
Прижимая драгоценную ношу к груди, он идет к тому купе, из которого слышатся голоса. Распахнув дверь без стука, он щелкает каблуками и вскидывает прямую ладонь к козырьку фуражки.
Офицеры оборачиваются и, замерев, смотрят на Хансена — вернее, на то, что он прижимает к груди. Самочки, стоявшие на полу, как по команде разворачиваются к двери. В следующую секунду на руках Хансена начинает дрожать ручной пулемет. Хансен не понимает, что происходит, он прижимает пулемет крепче, но удержать не может: тот увидел самочек, первых самочек в своей жизни, и неважно, что они немножко другого вида, — пулеметам безразлична сегрегация. Он бьется в руках хозяина все неистовее, приходит в возбуждение и начинает плеваться свинцом.
«Так вот как это выглядит», — успевает подумать Третий, падая с дырой в плече.
Пулемет раскаляется, Хансен, вскрикнув, роняет его, вытягивает руки, пытаясь защититься от огня страсти, который изрыгают самочки, — безуспешно, и падает, так ничего и не успев понять. Случайная очередь летит в стекло, вокзальная толпа визжит и пытается бежать, застревая сама в себе.
* * *
Начальник поезда выскакивает из сортира, он пытался остановить синяк, уже покрывший полфизиономии. Он никогда не видел самок пулеметов, это правда, но стрельбу-то он ни с чем не спутает, это уж позвольте. Он бежит на перрон, но в нескольких метрах от Штабного валится наземь, прикрывая голову руками: он все еще хочет жить, даже с синяком, уродующим его и без того не бог весть какое привлекательное лицо, даже с заплывшим глазом. Беспорядочная стрельба продолжается еще какое-то время, потом раздается громкий хлопок — пулемет взрывается, осколки щербят стены, располосовывают нежную плоть самочек, решетят неподвижные тела.
«Перегрев, — успевает подумать Первый. — Это мы толком не продумали». И больше не думает ничего.
После взрыва стрельба стихает. Начальник вытаскивает свое тело из пыли и бредет к Штабному вагону.
* * *
Через полчаса прицеплен новый Штабной вагон, осколки и клочья плоти убраны, пятна замыты. Толпа клубится, ругается, оттаптывает друг другу ноги. Начальник смотрит в окно на перрон, левая сторона лица у него болит, и, кажется, сломан нос — иногда он осторожно трогает его рукой, но, охнув, сразу отдергивает ее. Колокол взвякивает каждые две минуты. До отправления меньше четверти часа.
Некод Зингер
НЕОПУБЛИКОВАННЫЙ РАССКАЗ Г.-К. ЧЕСТЕРТОНА
Трудно себе представить погоду более отвратительную, чем та, что царила в Святом городе на протяжении всей рождественской недели. Пронизывающий сырой ветер и потоки дождя, сопровождаемые чудовищными раскатами грома и вспышками молний, которые следовали одна за другой с пунктуальностью адской машины, не давали разойтись по домам, несмотря на поздний час, компании, собравшейся в доме Бенина на улице Пророков. Половину этого большого дома напротив новой англиканской школы, в котором при турках располагалась резиденция паши, снимал начальник городской полиции полковник Энтони Хилл. В небольшой гостиной на втором этаже семь джентльменов и юная леди в трауре сидели, греясь грогом, сигарами и неровным теплом арабской жаровни, установленной в середине комнаты. Кроме большой медной люстры на три дюжины свечей, свисавшей по центру высокого сводчатого потолка и как две капли воды похожей на висячих многоруких монстров сёфардской синагоги в Лондоне, и большого, по крайней мере в восемь футов высотой, зеркала в гостиной не было ничего примечательного. Когда вспышка молнии выхватывала из темноты погруженный в абсолютный мрак город, в правое окно гостиной можно было разглядеть сад и черепичные крыши школы, расположенной на другой стороне улицы Пророков, а из левого окна открывался вид на застроенную рядом низкорослых уродливых домов Яффскую дорогу, на которую выводил обширный двор, некогда бывший великолепным садом, а ныне превращенный молодым Бенином в мощенную булыжником площадку для автомобилей. Эти нелепые металлические чудища, любимые чада хозяина дома, покупаемые со страстью безумного коллекционера в Германии, Франции и даже в Америке, числом не менее дюжины, почивали тут же, в углу площадки, под огромным брезентовым навесом.
— Не в обиду вам будь сказано, господин Бенин, вы, евреи, ничего не понимаете в садово-парковом деле, — скрипучим голосом произнес директор англиканской школы, преподобный Джереми Уилсон. — Такой сад загубить! Нужно иметь каменное сердце, сэр.
Молодой хозяин дома нервно хихикнул и поднял к потолку свои большие миндалевидные глаза. С тех пор как скончался его отец, коммерсант из Адена, сделавший свое состояние на торговле слоновой костью, молодой Ханания Жак взял фамилию Бенин в память обогатившей семью африканской страны, переехал в Иерусалим и усердно вкладывал все свое несметное богатство в покупку «фордов» и «студебеккеров». Запах бензина был ему во сто крат милее благоухания цитрусовых деревьев.
Юная Дженифер вздрогнула. Одно упоминание евреев способно было довести ее до слез. Ее жених, лейтенант Томас Биллоу, исчез в канун Рождества, а вчера, спустя три дня после исчезновения, его обезображенный труп был найден в колодце одного из домов-каре на противоположной стороне Яффской дороги, в каких-нибудь двух сотнях ярдов отсюда. Блестящий молодой офицер, вместе с армией генерала Алленби освобождавший Иерусалим, Биллоу заканчивал этой зимой службу в Иерусалимском гарнизоне, и его невеста Дженифер Перри вместе с отцом, сэром Тимоти Перри, баронетом, специально приехала в Святую землю, мечтая совершить обряд венчания в Храме Спасителя, и остановилась в англиканской школе.
Старуха, жена портного, выйдя накануне утром набрать воды, обнаружила в поднятом из колодца ведре английскую военную фуражку. Полиции удалось извлечь тело лейтенанта Биллоу, и полицейский эксперт установил, что все раны нанесены большими ножницами и ими же обезображено лицо. Расследование, проведенное самим полковником Энтони Хиллом, было кратким. Старик портной Хаим Берл Швальб немедленно показал, что сионист, поэт и безбожник Велвл Кунц (по прозвищу Вовка), снимавший угол в их доме и подписывавший свои возмутительные стихи псевдонимом Баал Га-Лаатут, недавно взял у него большие портновские ножницы для неизвестных целей. Кунца немедленно арестовали, и при обыске у него были изъяты ножницы вместе с подстрекательскими стихами и чудовищными бунтарскими воззваниями на русском и древнееврейском языках. Он отпирался неистово и держал себя высокомерно, но его виновность не вызывала у полковника ни малейшего сомнения. Сегодня он сообщил сэру Тимоти и Дженифер, что злодей-убийца лейтенанта схвачен.