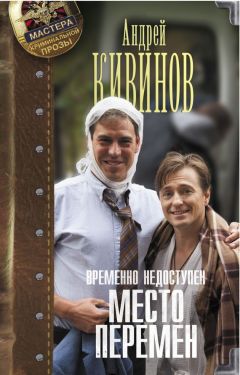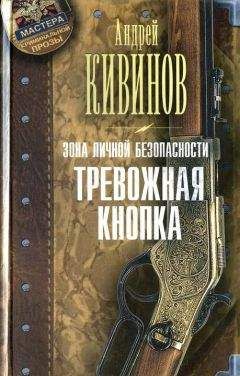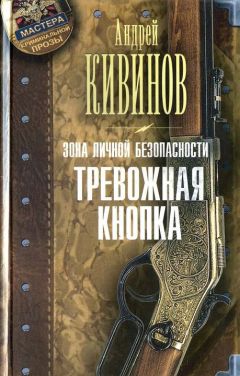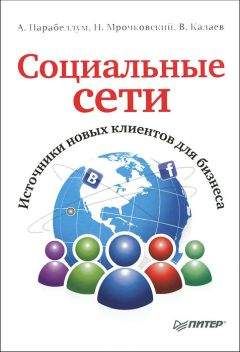Дима словно угадал мысли майора Фейка. Ехидно уточнил, состоится ли после задержания мэра очередная сделка со следствием? Да и с ОМОНом так просто не получится – Марусов не Домофон, без приказа сверху никто не двинется. Идиотов нет.
Но сердился Федоров скорее формально. Давно ждал часа справедливости. И кому не хочется почувствовать себя героем городского масштаба? Глядишь, лет через двадцать Димино фото в местном музее появится. Как известного борца с великозельской коррупцией. Да и не в музее дело. С другой стороны – Плетнев подлец. Настю увел. В общем, когнитивный диссонанс. Дима пообещал договориться с силовиками, и даже напомнил Золотову, чтобы тот зашел в канцелярию. Ответы на его запросы пришли по исчезнувшей Самариной.
В основном ими оказались дежурные отписки – не было, не знаем, ничего сообщить не можем. Но один ответ оказался наиценнейшим. Золотов даже длинно присвистнул, ознакомившись с документом. На такую удачу он и не надеялся. Машинально открыл дверь тринадцатого кабинета, даже не обратив внимания, что не вставил ключ в замок. Он оказался не заперт.
– Здравствуйте, Антон Романович…
Из-за рабочего стола навстречу хозяину кабинета поднялся солидный мужчина в строгом темном костюме. Еще двое стояли по бокам дверей.
– Следственный комитет. Москва. Здравствуйте, коллега, – распахнув знакомые уже корочки, поприветствовал вошедшего полковник Прокофьев. Удостоверение явно было настоящим – никто в нем фото не переклеивал.
– Доброе утро.
Слава почувствовал себя «первоходом», случайно попавшим в камеру к лютым авторитетам.
– Что-то вы сильно изменились после нашей последней встречи.
Он по очереди перевел взгляд с одного гостя на другого. Холод и лед. У палачей лица добрее. Объяснять что-либо бесполезно. Это не Некрасов. Предлагать деньги еще абсурдней. Всё. Финиш. И не средство для мытья посуды.
– Дела доставай, Вячеслав Андреевич, – развеял смутные надежды Прокофьев, уже установивший истинную личность майора Фейка.
Из отдела Золотова выводили, как и было приказано, – без помпы. То есть под руки, но без наручников. Тихо-мирно, никого из великозельских силовых структур не ставя в известность. Успеется. Вячеслав Андреевич шел спокойно и не сопротивлялся, понимал, что он не ниндзя и на крышу не взлетит, хоть обожравшись «Сникерсом».
Поравнявшись с Димой, копающимся под капотом любимого припадочного авто, он замедлил шаг и окликнул бывшего напарника. Дима с удивлением оглядел компанию. Неужели так быстро подкрепление из столицы прислали? Могли бы тогда и ОМОН свой захватить!
– Позвони Самарину! Передай – его жена жива. Она в Белоруссии, под Гомелем, во второй больнице. В социальной палате. Амнезия у нее.
Один из «московского подкрепления» ощутимо подтолкнул Славу в бок, чтобы не вел посторонних разговоров и поторапливался.
– А ты куда?
– Скоро вернусь! – не стал раскрывать карты майор Фейк.
Прокофьев весело фыркнул, когда его подчиненные аккуратно, но твердо запихивали задержанного на заднее сиденье таксомотора.
– Вернешься? Хм! Это вряд ли.
И лишь в салоне на Славиных запястьях щелкнули наручники.
Билетов на самолет не оказалось даже для представителей СК. Этапировали задержанного поездом. Зато отдельное купе.
За два дня, что ехали до Москвы, переговорили о многом. Кино, музыка, книги… Ну и о главном, конечно. О долге.
– Нет, я все понимаю, – переодевшийся в спортивный костюм Прокофьев сидел в купе напротив Славы и кивал, похлебывая горячий чай, – тебя ловили какие-то страшные люди, непонятно за что. Ты снял одежду с больного, украл документы. Уехал в Великозельск. Здесь у меня нет вопросов, все понятно. Но скажи мне, дружок, дальше-то зачем?
Прокофьев вытащил из разорванной пачки сладкую вафлю, надкусил. Только ради чая в подстаканнике вприкуску с вафлями он готов был путешествовать на поезде по всей стране. Было нестерпимо вкусно, как в детстве, когда на каникулы мама везла его к бабке на Азовское море.
Перед Золотовым тоже стоял стакан с чаем – Прокофьев слыл демократом, – но задержанный чай с лимоном не любил и пил только во время простуды. Он предпочитал эспрессо из маленькой белой чашечки. Без сахара. Но кофе здесь не подавали.
– Сидел бы себе тихо! Зачем дела возбуждать? – Прокофьев, утирая платком чайную испарину, кивнул на стопку папок рядом с собой на диване. – Да еще с арестами? Ты объясни мне по-простому, чтобы я понял. Это ж… Полный патриотизм!
А как здесь объяснишь? Тем более по-простому? Говорить красивые и громкие слова? Но это ведь не передовица в газете, а вагонное купе, неуместно вроде. Рассказывать про чувства, которые испытал, шагнув из люксовой палаты великозельской больницы в коридор, где все напоминало послевоенный барак? Про Настю, Федорова, собственную гордость? Не поймут. Прочитал стих Тютчева про непонятую умом Россию.
– У тебя не белая горячка, часом? – Не проникся полковник высоким штилем. – Похоже на то. Ты что, реально думал довести эти дела до суда?
– Не знаю… Но есть только два пути. Разрушать храмы или восстанавливать… Я попытался сделать второе.
– Понятно. Под дурака зря косишь… Экспертизу сделаем качественно.
Слава окончательно решил, что объяснять бесполезно. Вместо этого попросил дать телефон. Позвонить, а не поиграть.
– А вот с этим – вряд ли. Даже адвокату.
Вячеслав Андреевич не собирался звонить адвокату. Он хотел позвонить Насте. Сказать, что срочно вызвали и что непременно вернется. А теперь она решит, что герой банально наобещал с три короба, а сам испугался и сбежал. Только помирились. Обидно.
Собственно, Анастасия примерно так и решила, в очередной раз услышав из трубки «Абонент временно недоступен». Приехала в отдел, где радостный Дима, вместо того чтобы успокоить, принялся подзуживать, что Настин ухажер просто сдрейфил.
– Собери ОМОН, собери ОМОН, будем Марусова брать… – передразнил мелкий романтик, незаметно приближаясь к любимой еще на пару сантиметров, – а потом, видать, прикинул, что своя шкура дороже. А скорее всего, сверху запретили. Вот и сдернул.
Расстроенная Настя опустила руку с телефоном и отодвинулась от Димы.
– Но ведь возбужденные дела нельзя выкинуть в корзину? Люди арестованы – их куда девать? Дима, попробуй, узнай его служебный телефон в Москве. Пожалуйста.
– И не подумаю. Захочет – сам позвонит!
Сказал, как ампутировал! Нашли дурака! Умотал – скатертью дорога! Дима решил, что пора брать быка за рога. Надо после работы в цветочный зайти.
Шансы свои романтик оценивал как неимоверно высокие. Теперь, после бегства московского хлыща, Настя не отвертится! Скажет долгожданное «да» и подарит лобзание! Он своего добьется!
* * *
Телефон настоящего Антона Плетнева тоже отвечал «Абонент временно недоступен», нервируя весь театральный коллектив и Сергея Геннадьевича Васнецова в частности. Последнего, пожалуй, больше всех, ибо грозный спонсор господин Соловьев требовал назвать реальные сроки премьеры. Последние и окончательные. А как назовешь, если в наличии нет главной фигуры – режиссера?
Соловьев почувствовал, что готовится подвох, – лично пожаловал в театр на разборку. Дядя Сережа мялся, как шоколадный батончик в кармане, и на все требования предъявить режиссера пред ясные очи спонсора выкидывал вперед руку с часами убеждая, что Юрий Иванович появится совсем скоро. Буквально через час – в поликлинику пошел, кровь сдать на анализы. Но Соловьев решил больше на самотек вопрос искусства не пускать и прочно обосновался в директорском кресле, попросив кофе.
Буфетчица старалась изо всех сил и готова была целовать кофемашину, но и это не помогло. Пришлось Васнецову нагибать гладкий мячик головы и призывать «рубить, не стесняться» – Юрий Иванович Иванов был отпущен на пару дней по личным делам, но обратно, увы, не вернулся.
Соловьев таких шуток понимать не хотел. Что, и этот ушел в запой, почему-то называемый здесь творческим кризисом? Однозначно обрисовал финал истории – волшебное превращение народного театра имени Гоголя в инородный. Нечего место в историческом центре занимать, больше пользы будет, если в здании бизнес-центр открыть. На одной аренде сразу отобьется все то, что с барского плеча на спектакль перепало.
Васнецов клялся и божился, что новый режиссер в смысле горячительного ни-ни, артистов за один запах перегара с репетиции выгонял. Порядок в труппе железный навел! Волевой, так сказать, рукой!..
И в минуту, когда судьба очага культуры была практически решена, дверь в кабинет открылась, и на пороге возник сам Юрий Иванович. Обладатель волевой руки вид имел плачевный: под глазом фингал, на скуле ссадина, кожа на руках ободрана. Да и одежда на нем была не только не первой – даже не второй свежести. К рубашке прилипли березовые листья, как будто он парился, не раздеваясь. Соловьев, точно ищейка, принялся нюхать воздух, пытаясь уловить алкогольные пары. Не уловил. Неужто что похуже?