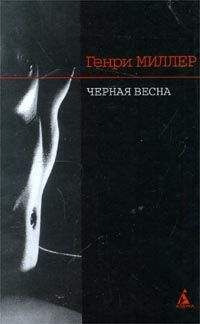Она слышала, выхватывая бившее по больному. Не позволю тебе… Себе можно! Себе можно позволить что угодно – определять цену, уходить, орать, угрожать. В ее горле нарастал ком, а наступившие сумерки начинали скрывать их лица и их мысли.
- Лучше бы ты правда тогда проехал мимо, - заставляя себя ровно дышать, проговорила Женя и обернулась к Таше. – Пойдем отсюда…
Моджеевский выдохнул, как раненый зверь, и отпустил ее, с трудом отцепив пальцы от ее плеч. Его скрутило. Он медленно отступил от Жени и спустился на одну ступеньку вниз, продолжая смотреть на нее дикими и одновременно пустыми глазами. И только Шань не растерялась.
- Как вам не стыдно! – яростно воскликнула она, подавшись к нему. – Ей же нервничать нельзя, она же беременная! Ей врач запретил! Скажи, Жека, что запретил, да?! У нее и так токсикоз поздний!
- Таш, - отстраненно проговорила Женя, больше не глядя на Романа. – Идем домой.
День и без теперешнего был полон впечатлений. И наверняка скоро начнет названивать отец, если она в положенное время не переступит порог квартиры. А Женька так бесконечно устала, чтобы стоять здесь и выслушивать его обвинения. Даже если те справедливы, теперь они чужие друг другу, что бы он сейчас ни заявлял. Весь этот цирк только лишь потому, что она снова задела его самолюбие. Не полюбила, когда ему хотелось, не просила объяснений, когда он принял решение, не сказала о ребенке, когда он очень четко обозначил ее место в его жизни.
Но когда она уже уходила прочь, чувствуя только, как в ее руку пониже локтя вцепилась Шань и, сопя носом, торопливо семенила рядом, за спиной она сперва сердцем, а уже потом ушами услышала Ромин негромкий, полный боли и усталости голос.
- Я все равно буду рядом, Женя! Я через дорогу!
Эти его слова никуда не делись
Эти его слова никуда не делись, лишив ее сна в ту ночь. И в следующую тоже. И потом, когда прошло время.
Нет, она даже не сразу осознала их. Как такое осознать сразу, когда вот – Ромкин поцелуй, злой и обиженный, но все же оставшийся на губах. А вот – его руки на ее плечах, на ее талии, на животе. Тоже с ней. И его пальцы дрожащие – с ней. И злой голос, которым он выкрикивал злые, обидные слова. Все оставил ей, или она сама с собой забрала воспоминания об этом сумасшедшем вечере, который разум ее предпочел бы не помнить, но вместо этого запечатлел в себе до малейшей детали.
Она ложилась в постель по вечерам и говорила: «Привет, потолок!» Потолок привычно молчал, и они вновь глядели друг на друга, пока в ее комнате отражалось сияние фонарей, иногда меняющееся в зависимости от погоды. Когда от почти ураганных порывов деревья, наклоняясь, заслоняли источник света, наутро она могла привычно врать папе, что плохо спалось, потому что мешал ветер. Когда шел дождь – ей тоже вполне подходило. Барабанил по стеклу, тревожил, заставлял маяться бессонницей. Хуже было в ясные дни и ночи, когда оставались только она и потолок, без посредников. Если ей везло, она проваливалась в сон, но ни разу не выходило проспать всю ночь подряд, и она постоянно выныривала в свою реальность, в которой Моджеевский «рядом, через дорогу».
Что он имел в виду, когда говорил это? Пытался запугать? Или констатировал факт? Одно было ясно – вернулся в свою квартиру и теперь снова в непосредственной близости от нее, отчего она, даже находясь дома с отцом, продолжала испытывать странное неудобство, будто за ней следят. Или приглядывают.
На балкон не выходила – знала, что Роман и круглосуточно может быть на работе, даже по выходным, а все равно таилась, всячески увиливая, боясь, что выйдет – а он там, напротив, курит, пьет свой крепкий кофе без сахара, от которого у нормальных людей вываливаются глаза, и ждет, когда она появится. О, как ей не хотелось доставлять ему подобного удовольствия! Как ей не хотелось хоть на минуту снова чувствовать себя в его власти, как тогда, на крыльце, когда он ее целовал.
И когда это было единственное, чего она желала.
Разумеется, долго так тянуться не могло, и последствия перманентного недосыпа и отвратительного аппетита не преминули ее подкосить на пару дней. Мало ей токсикоза – зашалило давление. Отец возил в больничку. Предложили остаться в стационаре, под наблюдением, она отказалась. Месяц не закрыт – куда ей в палате валяться? Впрочем, главдракон и под капельницей найдет, заявится, приволочет ноутбук, подключит интернет и заставит работать. Даже в коматозном состоянии, без вариантов.
Сейчас, правда, как ни странно, на работе, где стало невыносимо, Любовь Петровна едва ли не единственная, кто не донимал ее, и это было удивительно, поскольку именно ее вопросов Женя по привычке и боялась сильнее всего. Но что-то в главдраконе перещелкнуло. Перемкнуло. Женю она не трогала, однажды даже гаркнув на Ташу, у которой что-то там не получалось, и она дергала Женьку в момент, когда у той опять подкатила тошнота. Видимо, тетя Люба по цвету лица догадалась. Разогнала всех.
Чего не отнять у Любови Петровны Горбатовой, так это ее ни на что не похожих, очень своеобычных принципов, по которым она, плохо ли, хорошо ли, жила свою жизнь. И одним из этих принципов, как оказалось, было бережное отношение к материнству (даже тому, которое идет вразрез с ее интересами). Самой Горбатовой не довелось. Потому она держала слово – спешно искала замену Жене и даже приводила пару человек на смотрины.
В остальном – вокруг творился какой-то мрак. На нее пялились. Ей задавали вопросы. От нее все хотели каких-то деталей. Одна Шань чего только стоила!
«Ты что? Собралась замуж за Юрагу?!» - было первым, что она спросила, когда они бежали вдвоем от Моджеевского в сумерках, едва свернули за угол.
А Женя не собиралась замуж за Юрагу. Она вообще не понимала, при чем тут Юрага. Почему именно Юрага? Что Ромка себе придумал такое, что без конца вещает только о нем? Что тогда, с Юлькой, что теперь! Будто других мужиков нет. Климов вот его воображения так сильно не возбуждал. Интересно, почему, - истерично смеялась Женька впоследствии. Но последнее время и впрямь почти что прониклась – в глазах Моджеевского Артем, похоже, был прямо дьяволом во плоти. Знать бы еще, с чего такая любовь.
Впрочем, какая разница? Если бы Женя не была уверена в том, что Романом как великим дельцом всегда двигают какие-то мотивы его вероятной выгоды, даже если они не очевидны, то подумала бы, что он с ума сошел, как с ума сошли вообще все вокруг, кто лезли ей в душу. Она слышала свое имя под взрывы хохота, когда заходила в соседние кабинеты. Она слышала такие же взрывы за спиной, когда уходила. Она слышала шепотки по углам. Прямые каверзные вопросы в глаза. Она не привыкла к такому пристальному вниманию и все сильнее с каждым днем винила Ромку за этот концерт, на котором они стали хедлайнерами. И теперь каждый так и норовит получить автограф.
Апофеозом творящегося вокруг безумия стал главный юрист, он же глава комиссии по соцстраху, Геннадий Дмитриевич, усадивший ее к себе за стол, когда она поднялась к нему за больничными листами, чтобы взять их в работу. Он предложил ей сначала кофе, а потом – представлять ее интересы в суде.
«К-каком суде?» - заикаясь и глядя на него во все глаза, решилась уточнить Женя.
«Как в каком? По поводу опеки! Наверняка Роман Романович захочет признать отцовство и получить опеку!»
«Зачем ему это нужно?» - вытаращив глаза, недоумевала Женя.
«Ну слухи разные ходят, Евгения Андреевна. А Моджеевский явно заинтересован в вашем ребенке».
«Но я же не собиралась отказывать ему... в общении...» - возразила она.
«На вашем месте я бы не расслаблялся. Словесные договоренности в нашем мире ничего не стоят. Потому решено! Если он подаст в суд – ваши интересы представляю я. По дружбе много не возьму, но контракт рекомендую составить заранее, лучше предупредить риски!» - самодовольно вещал Геннадий Дмитрич, прихлебывал свой кофе и потирал руки. Юрист он был уникальный. Ни одного дела, возбужденного против университета недовольными студентами или бывшими сотрудниками, не выиграл, зато, помимо того, что занимал стул и кабинет в администрации по основному месту работы, еще и договор об услугах юридического характера заключил. Платили ему не только зарплату, но еще и конторе его бабок отваливали каждый месяц – предмет вечных Ташиных возмущений.