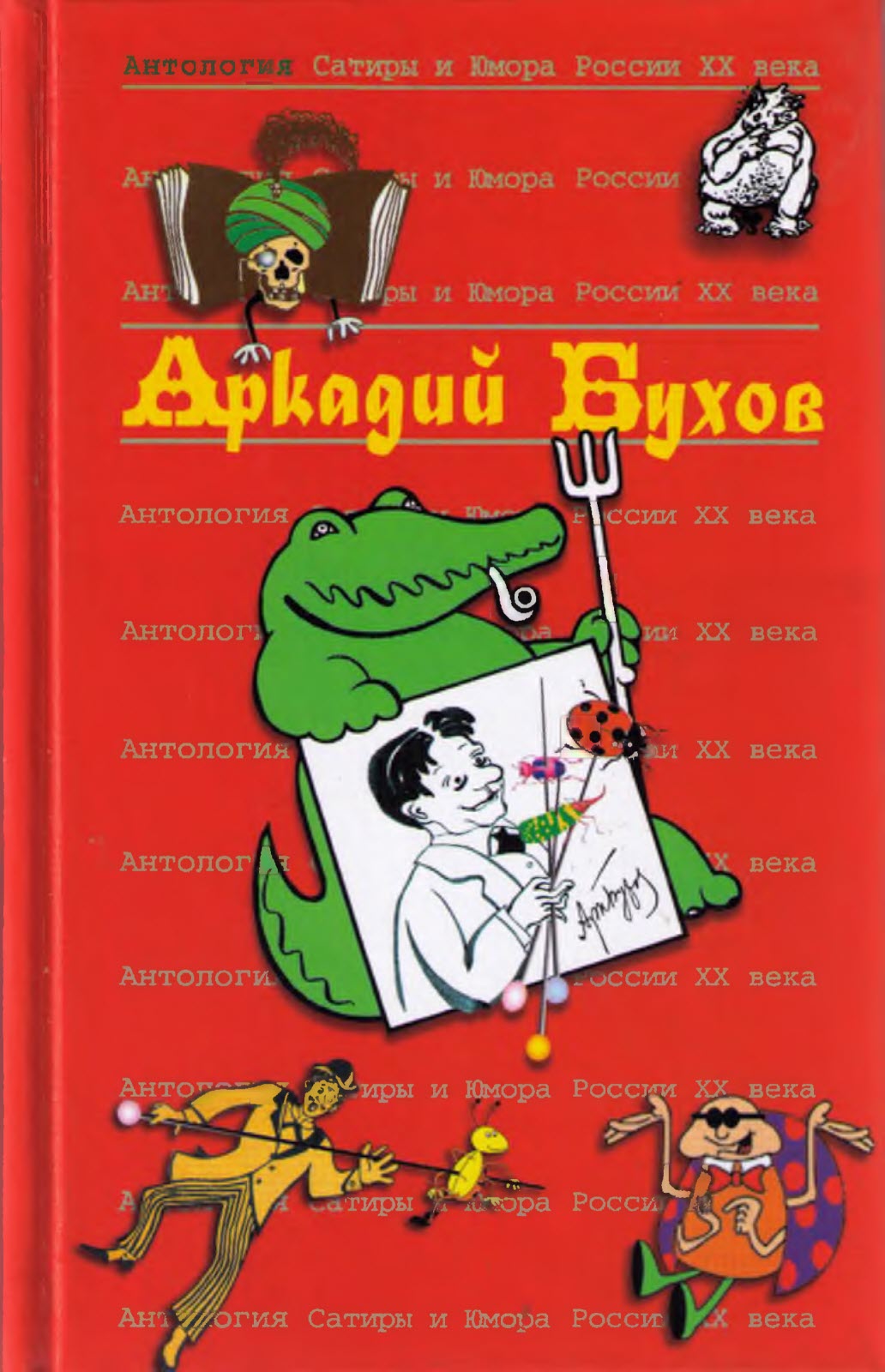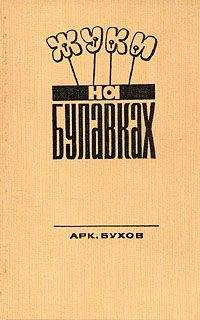находятся друг от друга, что телефон даже неловко называть домашним. Если гость, придя к мужу, не застает его дома, для того чтобы дойти до комнаты жены, ему придется телефонировать домой, что он вернется не раньше, чем через шесть часов. Если в припадке отчаяния мужу захочется устроить скандал. ему придется идти до будуара жены столько времени, что к половине пути настроение его начинает меняться, а к дверям будуара он доходит уже веселым, жизнерадостным и с назойливой мечтой о том. что бы ему подарить жене.
— Я бы завел себе массу разнообразных комнат, — вздыхал при мне человек с большим долгом в клубе и постоянной зубной болью, — и у каждой комнаты свое назначение.
Можно завести отдельную комнату для бритья, не только с зеркальными стенами, но даже с зеркальным полом, чтобы видеть себя снизу. Не так дорого стоит оборудовать себе комнату для экзотических переживаний, в которой были бы разбросаны по углам змеиные кожи, а на одной из стен была бы привязана за лапу живая обезьяна. Обезьяну можно не кормить, и она будет бросаться на людей: это придаст комнате мистически-жуткий оттенок.
Но если человек, живущий красивой жизнью, в такой квартире захочет почитать простую хорошую книжку, он будет горько лишен этой возможности. У него будет отдельная комната для разрезных ножей, отдельная механическая мастерская для переплета книжки, комната диктофонов для записывания его ценных мыслей, высказанных им по поводу данной книги. Но когда он захочет воспользоваться всем этим по порядку, то быстро устанет и ляжет спать.
* * *
— Мне было бы доступно все. Я каждый день ходила бы в театры и слушала знаменитостей.
Это говорила редакционная стенографистка.
Я поверил ей. Это очень заманчиво — смотреть в упор из литерной ложи на разных знаменитостей каждый вечер. Нужно очень часто ходить на галерку и по контрамаркам, чтобы выдержать это больше двух недель. Если бы я мог дать этой барышне красивую жизнь, я увидел бы ее через два месяца бледнейшей от злости при упоминании громкого сценического имени. Она, наверное, охотно перенесла бы самое обидное оскорбление словами, чем простое предложение билета на сильно рекламируемый концерт.
Я знал одного очень богатого человека, который ходил по кинематографам и выводил в люди совершенно безголосых и неуклюжих молодых людей, только для того, чтобы потом прийти на концерт, где бы обласканные им люди совершенно не напоминали ему знаменитостей. Если же молодому облагодетельствованному человеку везло и он начинал греметь, этот господин переставал не только выдавать ему пенсию, но даже и подавать руку.
Благотворительность вообще признавалась всеми моими собеседниками как неотъемлемый придаток красивой жизни.
— Вообще, около меня все должны быть веселы и довольны. Я много бы помогал.
Это было сказано человеком, репетировавшим отсталых гимназистов.
Я тогда же представил себе красивую жизнь этого человека, основанную, хотя бы отчасти, на довольстве окружающих. Целые дни большие скрипучие подводы привозили бы и вываливали у главного подъезда оживленные и алчные группы родственников. Быстро расползаясь по комнатам на ночь, ежедневно по утрам эти люди сходились бы из разных углов и становились бы в очередь перед спальней хозяина дома. К очереди, хвост которой неминуемо заканчивался бы на тротуаре, стали бы примыкать и совершенно посторонние люди: мальчишки из мелочных лавочек, которым все равно, к чему бы ни примыкать, пьяные, которым все равно стыдно возвращаться домой, и даже студенты-первокурсники, приезжающие из провинции. примкнувшие к очереди во имя протеста против существующего строя. Перед глазами хозяина дома происходили бы кошмарные сцены споров среди благотворительствуемых, когда двое сильных таскали бы одного слабого за волосы по аккуратно натертому паркету. Матери бы на его глазах позорили словами и свидетельскими показаниями своих дочерей, а отцы раскрывали бы детям, что они — приемыши. Кончилось бы все это тем, что, когда благотворитель уехал бы за границу, родные через опытного адвоката объявили бы его умершим и шумно стали требовать выделения своих частей наследства.
* * *
Это все очень далеко от красивой жизни. И, если бы меня самого просили обрисовать ее контуры, — я. наверное, категорически отказался бы. И только одного человека видел я в своей жизни, который медленно, но верно приближался к своим идеалам жизненной красоты.
Это была кухарка, старая дева, лет сорока. Она систематически собирала этикетки от чая, обложки от старых книг, картинки от кондитерских коробок, развешивала их по стенам и осторожно приклеивала к внутренней крышке сундука, а на праздничные деньги покупала зеленые или розовые платки на голову. Часто вечером она садилась на низенький табурет, подымала крышку сундука, надевала самый яркий платок и подолгу проводила время в созерцательном молчании. Когда я заставал ее в такие моменты, по ее лицу я видел, что отрывал ее от какого-то очень хорошего переживания.
Позже я понял, что она тоже тосковала о красивой жизни и начинала ее собственными руками и личной инициативой. Впрочем, вскоре, после одного продолжительного отсутствия, под видом ухода к тетке, она стала красть, и я ее выгнал.
I
Когда это случилось, Катерина Петровна отшатнулась к стенке автомобиля и с дрожью в голосе спросила:
— Вы меня поцеловали?
Я виновато опустил глаза и вздохнул.
— Зачем вы это сделали?
— Я? Да разве я мог иначе? — почему-то горько вырвалось у меня. — Разве вы не понимаете…
Что она должна понимать — й не знал. Всю дорогу она упорно держала голову на моем плече, машина тряслась, ее голова больно ударялась о мое правое ухо, и все это было очень скучно. Оставалось или внезапно проститься, экстренно остановить машину и поехать одному, или прибегнуть к тому способу сделать поездку более оживленной, к какому я и прибег. От Поцелуя у меня на губах остался вкус килек, которые Катерина Петровна ела за ужином у Чикановых, и неуловимое осязание губной краски.
— Нет, вы должны сказать прямо, — горячо схватила она меня за руку. — вы должны…
— Что, собственно, сказать?.. — думая о том, что я сделал что-то непоправимое, спросил я.
— Почему вы это сделали? Вот это.
— Вот это?
Чем ниже опускается повесившийся человек, тем теснее охватывает его шею веревка. В конце концов с Катериной Петровной мы были знакомы четыре дня и можем быть незнакомыми очень продолжительное время.
— Потому что, — подыскивая тон, бросил я, разглядывая в морозное окошко улицу, — потому что чувство одинокого человека, который ищет выхода…
— Что ищет, выхода?
— Мы, кажется, сейчас приедем… Ходит и ищет выхода… Который ваш номер?
— Мы с вами так еще