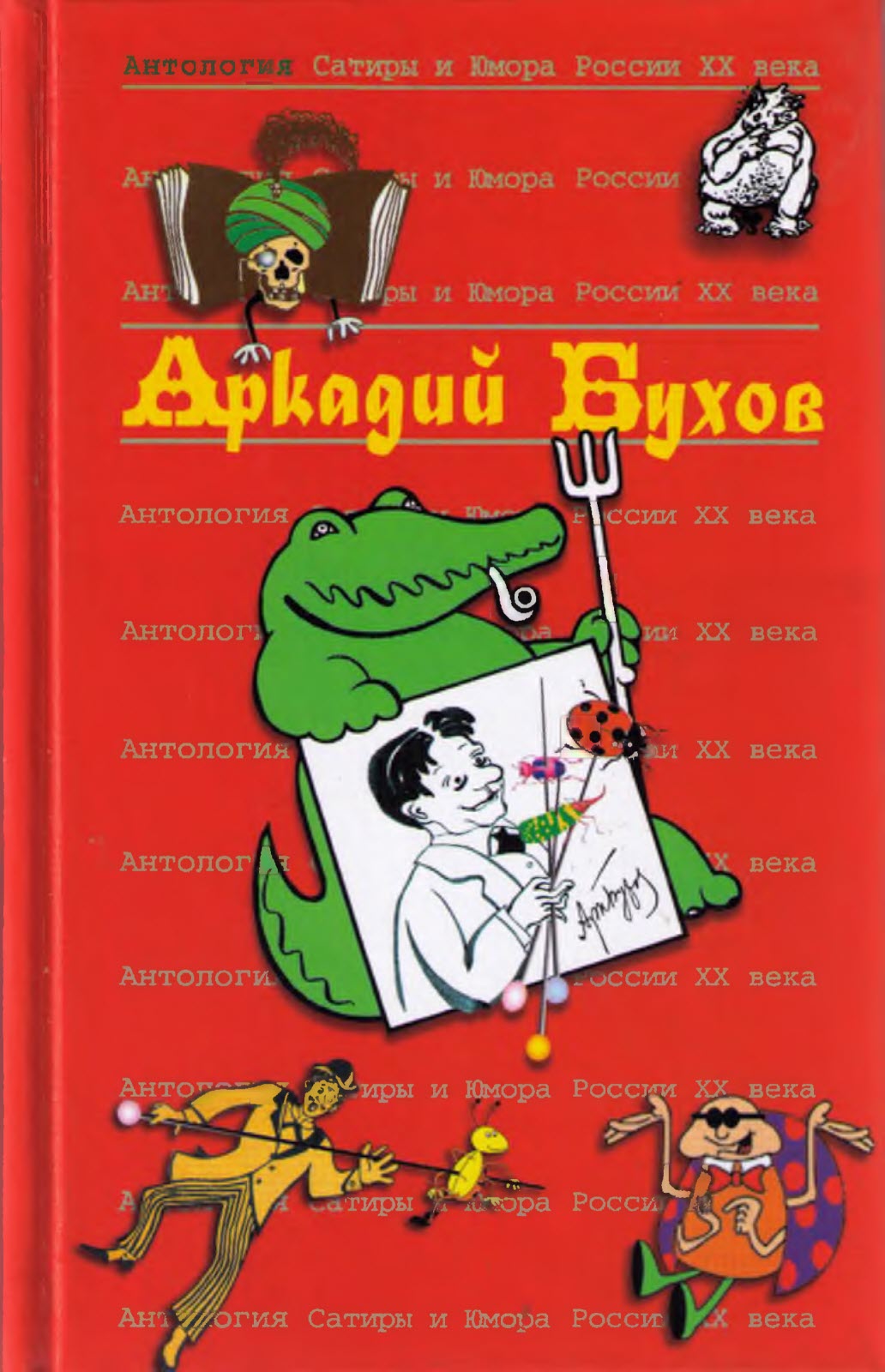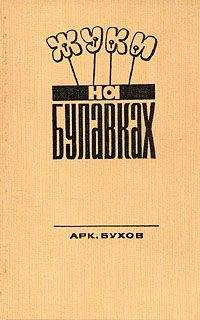ей говорили о тихом уголке семейного счастья и еще о каких-то там уголках…
— Я ничего не говорил об уголках. Ни о каких.
Он еще растеряннее заерзал на стуле.
— Что же, значит, мне моя жена соврала?
Я сочувственно кивнул головой.
— Вы не имеете права так говорить о чужой женщине, — вспылил он.
— Это вы сказали, а не я.
— Дело не в этом. Вы ее заставили просить у меня развода.
— Может, она собирается замуж? — вежливо осведомился я.
— А я почему знаю, — убито сказал он. — она мне о вас все уши прожужжала…
— Не я же жужжал, а она…
— Что же вы на нее всю вину сваливаете?..
— А я чем виноват?..
— Вы виноваты в том, что третьего дня сего месяца я по телефону застал у вас мою жену, Катерину Пет…
— А я так сам ее застал. Не по телефону. Пришел, а она сидит и ждет меня.
Матахин посмотрел сначала куда-то в угол, потом на меня и голосом, в котором послышались слезы, печально сказал:
— Значит, вы любите друг друга?
— Ей-Богу же, я ее не люблю, — примиряюще бросил я, — ну хотите, я вам дам честное слово…
— Не надо мне ваших честных слов… Она мне все рассказала… Все.
— Может, вы бы еще раз с ней поговорили… — предложил я.
— Э, да что тут разговаривать… Семью вы разбиваете… У нас сыну девятый год…
— Ну, вот видите…
— Негодяй вы, Зурин, — внезапно встал он, — за этим и приехал я, чтобы сказать…
— Матахин, — холодно ответил я, не в силах найти в себе негодующих ноток, — подите вон…
— За это бьют… — искоса поглядывая на меня, проворчал он.
— Маша! Проводите, пожалуйста, гражданина.
V
— Я не ожидала этого от тебя…
— Катерина Петровна…
— Да, да, не ожидала… Встревожить душу женщины, а потом отрекаться от нее из страха перед мужем…
— Да он не пугал меня… Катерина Петровна…
— Ах, не надо, не надо этих упрашиваний… Я пришла, чтобы проститься…
— Ах, проститься…
— Ты рад… У тебя холодные глаза…
— Да, холодные. Да…
— Я люблю эти холодные глаза.
— Катерина Петровна…
— Я хочу, чтобы на них остался прощальный след моего…
— Кто там? Войдите, Маша, что вам?
— Вас там дожидается какой-то гражданин.
— Попроси подождать.
— Попроси, говорит, выйти, а то я сам подымусь…
— Хорошо, Маша, идите. Катерина Петровна…
— Это Евгений. Он сейчас придет сюда. Я знаю его характер.
— Ка-те-ри-на Петровна…
Она посмотрела мне в глаза и радостно всплеснула руками:
— Ты плачешь?.. Ну, милый, не надо… У тебя слезы… Ты не смеешь меня мучить слезами… Родной мой…
— Я не могу… Я же не хочу… Кто там… Войдите…
— Евгений.
— Гражданин Зурин. Я вас предупреждал, что, если я второй раз застану здесь эту женщину…
Когда Матахин увел Катерину Петровну, я лег на кушетку, закрыл лицо руками и пролежал так около двух часов. И, когда поднялся, усталый и бледный, я понял, что я уже не жилец в этом городе. Впрочем, через четыре недели я приехал снова; через три часа после моего приезда в кабинете уже сидела Катерина Петровна и упрашивала меня, чтобы я окончательно переговорил с ее мужем. Что может сделать она одна без помощи любящего и любимого человека…
Человек, у которого я живу, очень хорошо ко мне относится. И я сам люблю лежать у его ног целыми часами и сквозь сон смотреть, как он сидит и что-то пишет. Иногда он отрывается от работы и ласково смотрит на меня.
— Ты славная собака, Ретто.
Таким тоном он никогда ни с кем не разговаривал. Меня это очень трогает, и, как бы ни было тепло и уютно на ковре, я все-таки встаю и лижу ему руку.
— Какие у тебя добрые глаза, Ретто.
Как же им не быть добрыми. Ведь я люблю его. Он такой спокойный, мягкий и хороший. И чем больше я люблю его, этого человека с тихим голосом, тем больше ненавижу людей, которые его окружают.
Когда в доме еще не было этой крикливой розовой женщины, ругающей теперь моего друга и вносящей столько нелепого шума, было сравнительно лучше. Часто мы воз-вращались домой вместе. Я приходил от одной знакомой овчарки, которая так мило передавала мне все сплетни их дома и была очень нежна, я дожидался моего друга у дверей квартиры. Приходил он всегда усталый и чем-то хорошо взволнованный. Я — собака, но я прекрасно понимал, чем он был взволнован.
Я бросался к нему навстречу и старался лизнуть в лицо: разве он не был для меня самым близким?
— Ах, Ретто, Ретто… Старая моя собачища… Как было хорошо… — бросался он на диван в своем кабинете.
— Ну, уж старая, — вилял я хвостом, — вы скажете.
— Нелли удивительно мила…
— Нелли похожа на мою овчарку, — смотрел я ему в глаза, — у них что-то общее в манере освежать нас своим лепетом о пустяках…
— Ах, Ретто, если бы ты понял меня…
— Да разве я не понимаю? — Я ложился около стола, клал голову на лапы, показывая, что самое лучшее, если он сядет за стол и начнет писать. Все равно, разве разговором со мной выскажешь все то, что поет в сердце.
Он садился и писал. Долго-долго. Отрываясь и шепотом разговаривая со мной.
— Это выходит очень хорошо, Ретто. Так понятно и просто.
— Я очень рад, — взглядом отвечал я, — разве же может быть иначе у такого славного и умного человека, как вы.
Ложился он поздно и долго не мог заснуть; вздыхал. В эти минуты мне очень хотелось полежать с ним. Иногда я не сдерживался, подходил и — осторожно клал лапу на одеяло. Он улыбался в темноте какой-то очень хорошей улыбкой и ласково упрекал:
— Ретто… Такая большая собака…
— Ведь вы же все равно не спите, — конфузливо опускал я голову, — а я бы прилег и не мешал.
— Ну иди, иди, хитрая собака… Ну, гоп…
Какая же я хитрая собака? Хитрая — это та розовая женщина, которая теперь живет в доме, целует его в щеки и мешает ему работать глупыми слезами. Если бы она была