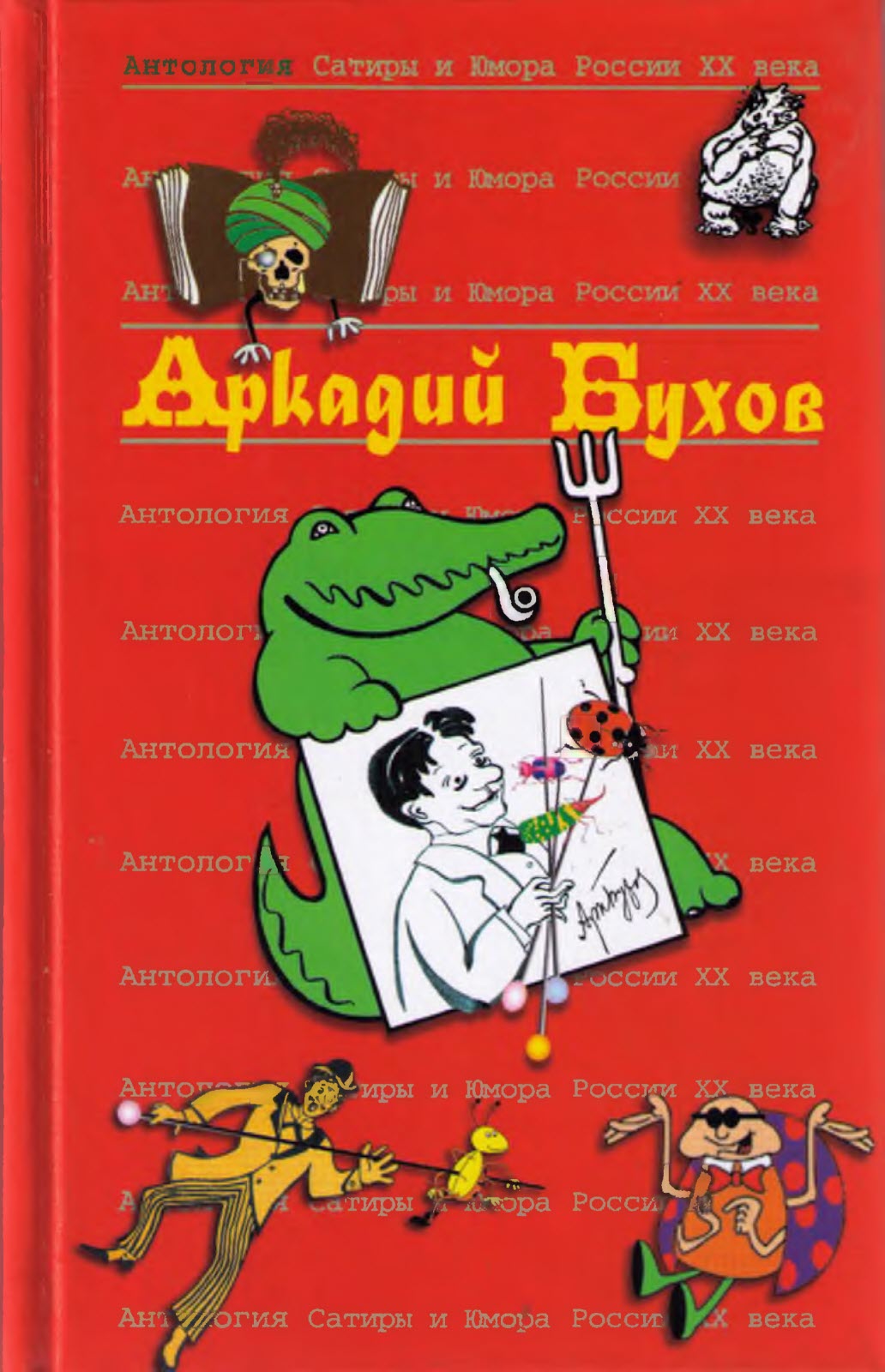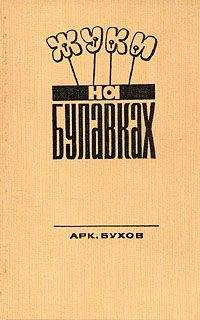не хитрая, она рассказала бы ему о своих разговорах по телефону и каких-то письмах, которые она прячет.
В постели у него очень хорошо. Чисто, тепло и с ним рядом. К утру я, правда, ухожу — и ему, наверное, неудобно, и я лучше на ковре высыпаюсь.
* * *
Один раз он пришел чем-то убитый, с заплаканными глазами и грузно опустился в кресло.
— Меня больше никто не любит. Ретто.
Я подошел к нему и положил голову к нему на колени:
— А я?
— Разве только ты, Ретто…
— А та? Нелли? — если бы он мог меня понять. И, чувствуя, что ему самому хочется ответить на этот вопрос, он грустно шепнул:
— Нелли бросила. Ее теперь нет… Нелли никогда не вернется.
Действительно, она, должно быть, не вернулась. Мой друг стал приходить домой рано. Он не писал. Не разговаривал со мной. Если садился за стол, долго и пристально смотрел на огонек лампы, потом опускал голову и плакал.
— Пожалуйста, не плачьте… Не надо плакать, — говорил я ему молча, отходя в угол, к книжному шкапу и смотря оттуда, — разве вы не знаете сами, какой вы хороший…
— Ретто, если бы ты мог меня понять, — сквозь слезы говорил он. — Я совершенно один.
И плакал опять. Таких ночей было очень много. Потом стало приходить очень много людей; все они кричали, смеялись и бросали на пол окурки. Потом прекратилось и это, а в квартире у нас осталась жить одна из приходивших со всеми. Грубая, визгливая, недобрая, розовая женщина.
Мы ее не любим. Мой друг относится к ней брезгливо, а мне ее иногда хочется укусить. Разве она не может сделать, чтобы он не был такой бледный и не плакал по ночам? А если не может, зачем она здесь?
* * *
Все это я рассказываю, между прочим, только для того, чтобы вы могли понять меня и не обвинить во вчерашнем поступке. Я причинил много неприятностей моему другу, но я думаю, что каждый на моем месте поступил бы так же.
Вчера утром, пока еще он спал, я побежал за прислугой на базар. Я люблю эти утренние прогулки после долгого сна в теплом кабинете. Обнюхаешь встречных, поделишься впечатлениями со знакомыми и немного рассеиваешься. Ко мне целиком переходит настроение моего друга; если же он еще захворает, так я прямо сажусь около постели и начинаю выть. Может, это глупо, но я не могу удержаться.
Прислуга, обегав все лавки, завернула куда-то за угол, где посередине улицы мужики навалили кучу зеленых елок. Она подошла, выбрала молоденькое хрупкое деревцо и отдала деньги.
— Кому это у вас елку купили? — спросила меня знакомая такса с нашей лестницы.
— Не знаю, — рассеянно отвечал я, сам занятый этой мыслью, — ребят у нас нет… Может быть, просто в столовую поставить. Я не люблю запаха елки, но многие любят.
Прислуга знала, для кого. Встретившись на лестнице со швейцаром, она широко раскрыла рот и рассмеялась:
— Хозяин чудит. Лысина во всю голову, а он елку устраивает. Тоже…
Какая она дура… Разве можно над ним смеяться.
* * *
Никогда я не видел его таким оживленным. Пришел с мороза, немного румяный, внес массу каких-то коробок, раскрыл их и стал вытаскивать оттуда золотые нитки, орехи, свечки.
— Елку, брат Ретто, устраивать будем, — сказал он мне, кивнув головой на елочку, которую прислуга поставила к нему на стол.
— Давайте, — улыбнулся я, — будем делать что хотите.
Возился он с елкой, как гимназист на дворе со снежной бабой. Вешал, перевешивал каждую игрушку и улыбался.
— Хорошо, Ретто?
Я ударил хвостом по ковру: очень хорошо. В это время кто-то позвонил по телефону.
— Да, да, Надежда Николаевна, — печально сказал он в середине разговора, — я буду один… В прошлом году в это время мы с Нелли тоже устраивали елку… Что? Да, в память ее. Мне даже кажется, что вдруг она… Да, да, я знаю, что она не может вернуться…
Она не может вернуться, Ретто… — сказал он, положив трубку.
Улыбка сползла у него с лица. Он прилег на диван, прислонил лицо к кожаной спинке й замолчал. Мне показалось, что он плачет, но плачет так тихо, что это можно услышать только душой, а не ушами. Так мы молчали очень долго, пока не стало совсем темно. Потом он резко хрустнул пальцами, поднялся с дивана и стал зажигать свечи на елке.
Это очень хорошо, когда в длинной темной комнате, где недавно плакал большой, добрый человек, светится маленькими огнями елка.
* * *
В это время и вошла та, которая жила с нами. Высокая, напудренная, в шелестящей неприятной юбке. Я хорошо запомнил их разговор.
— Это еще что? — злобно спросила она, показывая пальцем на елку.
— Это я… для себя…
— И долго ты намерен здесь сидеть?
Мне хотелось побыть сегодня одному.
— Что еще за выдумки дурацкие?
— У меня нехорошо на душе.
— Ты же сегодня обещался со мной к Ереминым…
— Я не пойду, Нюта.
— Как же ты не пойдешь?.. Это же свинство, — в голосе у нее уже слышалась кухонная резкость.
— Я не пойду туда. Там противно.
— Что же ты, со своей елкой будешь торчать?
— Да, буду. Понимаешь — буду.
— Я ее к черту выброшу, твою елку.
— Ты этого не посмеешь сделать.
— Я? Не смею?! — Я глухо зарычал.
— Куш ты, дрянь… Я тебя вышвырну из этого дома вместе с елкой.
— Иди вон, — тихо и твердо сказал мой друг.
— А, ты вот как, — визгливо закричала она, — вот как… На тебе, на… — и, схватив каминные щипцы, она ударила ими елку. Послышался какой-то хруст. Брызгами полетели свечки, и деревцо упало со стола.
— Как ты смеешь! — хрипло закричал мой друг, побледнев и тяжело дыша. — Иди вон…
Быть может, я просто убежал бы из комнаты. Но когда эта женщина, вместо того чтобы просить прощение, вместо тихих слов или плача подбежала к моему другу и два раза тяжело ударила его по лицу, я не мог удержаться. Все помню смутно — хорошо только помню, как зубы впились в мякоть пахнущей одеколоном ноги, кто-то закричал, упал на пол и меня оттащила за ошейник сильная, знакомая рука.
Я должен был защищать его. Я его люблю.
— Идем. Ретто… — взволнованно сказал любимый голос, в котором дрожала горечь, — идем. идем… Маша! Маша! Принесите, пожалуйста, хозяйке воды… Потом, там хозяйка уронила елку… Смотрите, чтобы не загорелось…
И я, и он почти выбежали на улицу. Мы ходили по улицам до утра. Никого не