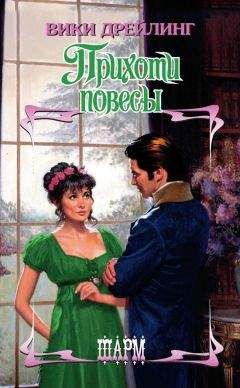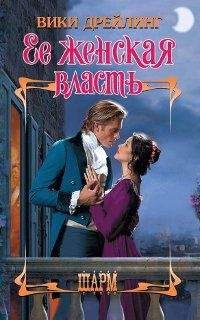– Прости мое любопытство, он когда-нибудь просил тебя в чем-то ему помочь?
– Я перестал ждать этого уже несколько лет назад. Отец обычно брал меня с собой, когда ездил к арендаторам, но большей частью он все стремится делать сам. Потому я и стараюсь держаться подальше от Дирфилда, что чувствую себя здесь абсолютно ненужным. Отец может распространяться о том, что нужно сделать, но ни к чему меня не подпустит и не даст почувствовать ответственность. Это раздражает как черт знает что.
– Сегодня же позволил, – заметила она. – Начало положено.
– Правильно. Только меня почему-то не оставляют подозрения, что у него имеются еще какие-то планы в отношении моей персоны.
Она нахмурилась.
– Когда ты стал таким пессимистом?
– Я всегда рассчитываю на худшее, чтобы не разочаровываться.
– В таком случае ты никогда не будешь доволен.
– В яблочко!
Ей вдруг открылось, что она ханжа. Однако ее пессимизм основывался на каких-то реальных, а не потенциальных событиях. И действительно она планировала жить так, как сама захочет.
Колин указал на коридор с левой стороны.
– Давай посмотрим, что там.
Он открыл дверь и пропустил ее вперед.
– Это кабинет, – сказала Анджелина.
Тут стоял письменный стол, покрытый холстиной, напольный глобус, а вдоль стен – книжные полки, доходившие до потолка. За шторами обнаружился эркер, и она воскликнула:
– Как много света! Тебе наверняка понравится работать здесь.
Он уперся руками в бедра.
– Да, на свету особенно заметно, сколько пыли накопилось на полках и приставных столиках.
– Ты помнишь эту комнату?
Он раскрутил глобус.
– Я помню вот эту штуку. Она казалась мне гигантским волчком. Отец указывал пальцем в разные страны и требовал, чтобы я их назвал.
– Ты выдержал испытание?
Колин кивнул:
– Да, тогда я уже был знаком с географией и знал много стран. Мне больше всего нравилась Италия, потому что на глобусе походила на сапог.
Она вернулась к окну в эркере.
– Отсюда прекрасный вид на парк.
Он подошел и встал у нее за спиной. Ветер срывал с деревьев золотые и оранжевые листья. От ее кожи исходил нежный запах розовой воды. Что-то глубоко интимное было в том, как близко они стояли.
– Мне обязательно понравится эта комната, – сказал Колин, на что Анджелина, отодвинувшись, отреагировала как-то слишком оживленно:
– Может, снимем покрывало со стола?
Ему стало интересно, почему она вдруг занервничала. Уж не он ли тому причиной? Пожав плечами, Колин сдернул холстину, и его взору предстал письменный прибор с двумя чернильницами и комплектом гусиных перьев. Взяв одно из них в руки, он нахмурился:
– Им ни разу не пользовались. – Вероятно, это тоже было одним из свидетельств поспешности, с какой отец оставил дом несколько лет назад.
Колин принялся выдвигать один за другим ящики.
– Ищешь что-нибудь конкретное?
– Ничего здесь нет. – Не хотелось говорить про миниатюру с портретом матери. Не сейчас.
– Не сомневаюсь, что твой отец забрал отсюда все важные бумаги и письма.
Колин подошел к серванту и, открыв дверцу, обнаружил графин с янтарной жидкостью и бокалы. Вытащив пробку, понюхал содержимое и с удивлением констатировал:
– Бренди, причем превосходного качества.
Анджелина высоко вскинула брови.
– Не рановато ли?
Засмеявшись, он плеснул немного в бокал и протянул ей.
– Леди не пьют крепкие напитки.
Колин рассмеялся.
– Трусиха!
– Если думаешь, что насмешками заставишь меня выпить, то ошибаешься! – заявила Анджелина.
Облокотившись на сервант, он покрутил бокал в руке, любуясь переливами золотистой жидкости.
– Ты не представляешь, от чего отказываешься.
– Даже не хочу представлять. А теперь, если намерение меня искушать исчезло, предлагаю взглянуть на гостиную. Или их здесь несколько?
Он проглотил бренди.
– Понятия не имею.
– Может, еще что-нибудь вспомнишь, пока мы будем осматривать дом?
– Да, где закопано сокровище, например, – усмехнулся Колин.
– Ты слишком циничен. – Она направилась к двери. – Это дурно сказывается на пищеварении.
Наблюдая за движением ее аккуратных округлых ягодиц, он проговорил:
– С этим у меня все в порядке и аппетит всегда отличный.
Когда они вошли в утреннюю столовую, в ноздри ударил аромат свежего хлеба, так что у Колина громко заурчало в животе, отчего все рассмеялись.
– А сейчас можно и перекусить. – Анджелина открыла корзину и приподняла салфетку, в которую завернули хлеб, чтобы не остывал.
На пороге объявилась Агнес и коротко присела.
– Все готово, миледи.
– Ты, должно быть, проголодалась.
– Если вы не против, миледи, я пойду на конюшню и там поем с Джоном.
После того как служанка ушла, Анджелина нахмурилась:
– До конюшен идти и идти.
– В противном случае ей пришлось бы присоединиться к нам. Правда, это, может быть, не совсем удобно для нее, в то время как Джон будет рад ее компании.
– Ты прав, конечно.
Колин порылся в корзине и вытащил кувшин с лимонадом и пару стаканов. Они сели рядом в том месте, где пролег теплый солнечный след. Ей стало так уютно, что хотелось свернуться в клубочек, как кошка. Они утолили голод холодным цыпленком, ветчиной, сыром, хлебом и бисквитами на десерт.
– Хочешь еще цыпленка? – спросил Колин.
Она приложила руку к животу.
– Нет, все. Боюсь, если съем еще хоть кусочек, то впаду в летаргический сон. Может, предложить его остатки тебе?
– Господи, нет, конечно. Я наелся до отвала.
Анджелина принялась заворачивать оставшуюся еду, а Колин – складывать ее в корзину. Когда она протянула ему остатки хлеба, завернутые в салфетку, их руки встретились. Случайное прикосновение вдруг что-то всколыхнуло в глубине ее души. Она глянула на него и наткнулась на изучающий взгляд. Он тут же отвел глаза, при этом тяжело вздохнув.
Она сказала себе, что ей померещилось это неожиданное взаимное притяжение. В любом случае она не могла позволить себе столь опрометчивый шаг. Колин принадлежал к семье друзей дома, а она здесь только для того, чтобы ему помочь. Ничего другого не могло и не должно существовать между ними.
Ей невольно вспомнилось, с какой силой два дня назад он действовал топором, вспомнились черные волосы на его груди и предплечьях. Колин относился к тому типу мужчин, от вида которых у женщин замирает дыхание, но она тут же напомнила себе, что он повеса, для которого главное – погоня за наслаждением. Она уже совершила одну грубую ошибку и не намерена делать другую.