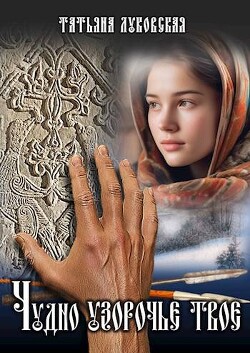что стрыю[1] моему кошель?
— Кошель сейчас пошлю отроков отобрать да вернуть. А кобыла и корова и вправду дядьки твоего, то ты и сама ведаешь. Это я так, попугать. Обживайся.
И гридень вышел в темноту крыльца. Бабка тоже куда-то запропастилась. Данила и Зорька остались одни. Несколько мгновений они стояли, украдкой разглядывая друг друга.
— Благодарствую, — поклонилась Зорька.
Данила взял ухват, пошарил им в печи и извлек горшок. Показал жестом — ешь, выкладывая на стол ложку.
— Благодарствую, — снова поклонилась Зорька, усаживаясь вечерять.
Каша была теплой и рассыпчатой, хозяин положил рядом еще краюху ржаного хлеба и поставил крынку с квасом, сам сел тихо в углу, продолжая разглядывать гостью. Зорька прочла молитву и заработала ложкой, есть и вправду очень хотелось, ведь с обеда во рту не было маковой росинки.
— Куда хозяйке стелить⁈ — это появилась старушка, волоча второй короб из приданого, гораздо меньше. — Куда хозяйку спать укладывать? — жестами сопроводила она свою речь, указывая на Зорьку и благостно складывая руки под щеку.
— А-ма, — указал Данила на маленькую дверь.
— В ложнице? — удивилась бабка. — А сам-то где?
— О-у, — сел Данила на лавку у печки.
— Вот и славно. Сам туточки, я внизу со стариком своим в подклети, а тебе ложницу жалует.
— Мне не надобно, я и тут могу, на лавке, — стала отнекиваться Зорька, — у нас дома и ложниц никаких не было, — она снова зыркнула на хозяина.
Данила лишь махнул рукой.
— Уж не переубедишь, он у нас упертый, — бабка подсела к Зорьке, — и щедрый без меры, ничего не жаль, раздаст все, глазом не моргнет.
— Я то приметила.
— Бери все в свои руки, целее будет. Ты девка хваткая.
— А тебя, бабушка, как величают?
— Осьмуша я, бабкой Осьмой кличут. А дед мой, Проняй, расхворался, завтра повидаетесь. Вот мы и челядь вся, приглядываем за сердешным. Поди назовись ему, — чуть подтолкнула она Зорьку.
Та поднялась, на мягких ногах, сильно краснея, подошла к хозяину. Данила поднялся, торопливо подпоясывая рубаху.
— Зоряна я, Зорька. Зорькой кличут!
— Немко, — очень четко произнес хозяин, словно и не был немым.
— Это его Вольга научил. Вишь, как ладно, — за спиной похвалила Осьма. — А Данилой не получается себя кликать, трудновато.
А очи у него и не суровые вовсе, взгляд робкий, смущенный. И сама Зорька разволновалась. Ой, недобро у холостого парня девке жить да так-то в карие очи всякий раз заглядывать.
[1] Стрый — дядька по отцу.
Теплый солнечный луч прошелся по лицу, ласково потрепал по щеке.
— Солнце встало! Проспала! Корова не доена, стадо ушло! — Зорька скатилась с широкого ложа, больно ударившись коленями о дощатый пол.
Сознание прорвалось сквозь утреннюю дрему. Какая там корова, ни буренушки, ни избы, чужие стены, узкие оконца, расписной короб в углу — новый дом. Зорька поднялась, обернулась поневой и с опаской выглянула в соседнюю горницу. Лавка Данилы была пуста, никого.
— Божья помощь хозяину. Есть кто⁈
Вот дуреха, как он тебя услышит? Зорька прошлась по пустой комнате, придвинула плотнее к стене свои короба, чтоб не мешались на дороге, протерла ветошью столешницу от следов мела и крошек, потрогала печь, та оказалась холодной.
— Растопить надобно, поесть сготовить. Где у них тут дрова?
Крутнувшись и не найдя ни поленца, Зорька пошла на двор.
Двор был устлан ровненькой зеленой травкой, ни курочки, ни уточки не паслось на этих щедрых кормах. «Куда ж они птицу выпускают, неужто все время в курятнике сидит?»
— Как спалось? — приветливо окликнула ее Осьма, лихо коловшая у отдельно стоявшей клети дрова.
— Добрая лежанка, благодарствую. А где ж хозяин? — завертела Зорька головой.
— Так, где и положено, работать к детинцу подался.
— Давно ушел? — почувствовала Зорька укол совести, что проспала и не проводила приютившего ее Данилу теплой трапезой.
— Еще затемно.
— Так рано?
— Всегда так начинают, пока прохладно, да солнце не так припекает.
— А ел ли чего?
— Вчерашнюю кашу с собой взял. Всегда так уходит.
— А вернется когда?
— Это уж как вечереть начнет, не раньше, — Осьма последний раз махнула топором и начала складывать поленья.
Зорька подлетела помогать.
— Так ты ж сама сказала, что рано начинают, до жары. А по жаре что делают, обедать не приходят?
— Там в теньке недолго дремлют да обедают. Спешат, князь желает до Рождества все успеть, а работы непочатый край. Пойдем, хоромы тебе наши покажу.
— И что ж хозяин, целый день на вчерашней каше держится? — продолжала допытываться Зорька. — У нас в поле обед носят. Я батюшке всегда носила, и чтоб горяченькое.
— Ну, тут тоже жены да дочки носят, али кто из челяди, — уклончиво отозвалась Осьма. — Да наш не любит того, серчает на меня. Говорю ж, ему ничего и не надобно, малым доволен. Вечером явится, крошева похлебает да на завтра кашу запарить велит.
— Так не годится, что мы, хуже других, что ли? — рассудила Зорька. — Пошла я печь топить да обед творить. Сама отнесу.
— Отнеси, чего ж не отнести. На тебя, может, постесняется фыркать.
— Ты, бабушка, только расскажи, какие у вас запасы, сколько на день положено, есть ли у вас огородец какой? Видела, там у реки распахано, нашему клочка не выделили? — начала засыпать вопросами Зорька. — А птицу какую держите? А еще какая животина есть? На торг часто ли ходите? Дорого ли там? А хлеб сколько раз в седмицу затеваете?
— Откуда ж ты такая додельная? — усмехнулась Осьма.
— По матери третье лето как сиротствую, хозяйство на мне было, — пожала плечами Зорька. — А дрова вы откуда берете, сам в лес ходит? К зиме уж пора готовиться.
— Все расскажу, не тараторь, а то один молчит, другая что ручей по весне, вам бы друг с дружкой поделиться.
— Да ежели б то можно было, — вздохнула Зорька.
Дед Осьмы, некогда крепкий муж, а ныне высохший сгорбленный старик, был плох и ногами работал худо. Зорька с Осьмой под руки вытащили его на двор, посидеть под ласковым утренним солнышком.
— Это что ж, Данилки нашему рекомая водимой[1]? — подслеповатыми очами рассматривал он новую девицу.
— Да я ж тебе уж втолковывала, сестринича Вольги, у нас жить станет, — Осьма подложила мужу под спину подушку. — Позовешь, ежели что, мы стряпать.
— Водимая — то хорошо, а то заладил — уйду да уйду, — закряхтел дед.
— Куда «уйду»? — не поняла Зорька.
— Из ума уж выжил старый, — отмахнулась Осьма. — А хозяйство мы не держим, и огорода у нас нет. Все на торгу покупаем, что Данила заработает, с того и живем.