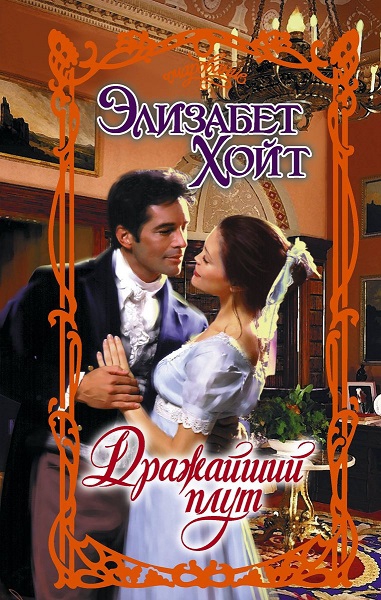другого мужчины.
Странно, что Максимус не принял Джеймса обратно на службу, что он охранял ее по собственному почину. Интересно, зачем ему это? Неужели из благодарности брату? Или она что-то для него значит?
Ее ладонь покоилась у него на груди, в раскрытом вороте рубашки из самой простой ткани — не грубой, но, конечно, не столь изысканно выделанной, как у брата. Феба осторожно погладила пальцами его обнаженную кожу и опять почувствовала щекочущее прикосновение волосков. Она знала, что делать этого не следует, но ведь несправедливо, когда он может ее видеть, а она знает о его внешности лишь то, что рассказали другие. Под волосками кожа казалась горячей, а волоски сами собой накручивались на пальцы. Ее ладонь двинулась дальше, и этот участок кожи был совсем другой. Она рассеянно гладила его, пока не осознала, что это сосок.
Разумеется, у мужчин были соски: конечно, не такие большие, как у нее. Сосок затвердел под ее пальцами, и Феба лениво задумалась, производят ли ее прикосновения ощущения, подобные тем, что могла бы испытывать она сама: ее соски были весьма чувствительными.
Она хотела было убрать руку, но его ладонь накрыла ее и не позволила, удерживая там, где она была.
— Феба, — произнес он глухо, вдруг обхватил другой ладонью ее затылок и завладел губами.
Это было… чудесно.
Его губы, такие горячие, подвижные и настойчивые, добились своего, а язык не преминул вонзиться в глубь ее рта весьма недвусмысленно, отчего сердце едва не выпрыгнуло из груди.
Джеймс перекатился на бок, забрасывая на нее ногу, и Феба оказалась пригвожденной к матрасу. Опять завладев ее губами, он стал целовать ее все настойчивее, словно заявлял свои права, показывал, что такое мужская страсть: не вежливое приветствие джентльмена, а объятие, исполненное низменного, животного желания. Его пальцы запутались в ее волосах, губы терзали рот. Она чувствовала его мускулистое тело и ту самую, твердую мужскую его часть, которая упиралась в ее мягкость. Ей почему-то захотелось раздвинуть ноги, ринуться ему навстречу и позволить делать с ней все, что ему заблагорассудится.
Из горла сам собой вырвался странный звук, похожий на тихий стон. Тревельон поднял голову и хрипло произнес ее имя.
— Нет-нет, — поспешила успокоить его она и обеими ладонями обхватила его лицо. — Нет, не останавливайтесь, прошу вас.
Неумело, но страстно Феба принялась сама целовать его, он со стоном перехватил у нее инициативу и впился в губы, одновременно раздвигая коленом ноги.
Она подчинилась, задыхаясь, он прижал всем телом ее к матрасу, и его напор стал еще ощутимее даже сквозь ткань брюк и ее сорочки. Она попыталась выгнуться ему навстречу, но не смогла одолеть тяжесть его тела и с жалобным стоном сдалась.
Джеймс коснулся ее подбородка, приподнимая лицо, не спеша поцеловал, словно хотел успокоить, и приподнялся.
Дышать стало легче, и тогда он опять принялся терзать ее рот. Поцелуй был страстным, жарким, а она училась принимать его язык: посасывать, покусывать. Его бедра тем временем вжимались в нее все сильнее, двигались точно по кругу, и явно добиваясь отклика ее тела.
Она уже чувствовала, что готова раздвинуть ноги, впустить его в свое лоно, ощущала соприкосновение плоти сквозь сорочку, смоченную ее собственной влагой. Это было… чудесно!
Он окружал ее собой, такой большой и уютный, и в то же время сводил с ума умелыми движениями губ, рук и бедер. Наверняка у него было множество женщин, которым он доставлял удовольствие. Едва эта мысль пришла ей в голову, Феба ощутила что-то похожее на ревность, но тут он обхватил ее грудь своей горячей ладонью, и все мысли вмиг улетучились.
Ну почему ее собственная ладонь, когда она касалась груди, не производила такого эффекта? В то время как от его легчайшего прикосновения спина сама выгибалась дугой, а из горла вырвался стон.
Он втянул в рот ее нижнюю губу, медленно обводя сосок большим пальцем, и судорога свела низ ее живота. Желание — вот что это было, нечто запретное, то, что она так жаждала познать именно с ним, с Джеймсом.
Ее пальцы погрузившись в его густые волосы, нежно перебирали их, гладили кожу, ощупывали сильную шею. Феба хватала ртом воздух, металась под ним в каком-то ожидании.
Он легонько сжал пальцами ее сосок, и все тело пронзила дрожь, а внизу живота, напротив, разлилось восхитительное тепло. Она еще посасывала его язык, но он вдруг застыл на пугающе долгую минуту, а потом медленно скатился с нее, сорвав с ее губ недовольный стон: утрата казалась невыносимой! Его руки обняли ее и повернули на бок. Последнее, что она слышала, проваливаясь в сон, было ее имя на его губах.
Поздним вечером того же дня Тревельон наблюдал за леди Фебой в свете сумерек, проникавших внутрь кареты, и на ее сочных губах играла слабая улыбка. Карету плавно покачивало из стороны в строну, и от этого клонило в сон. Они опять были в пути целый день — долгий утомительный день. Пока было светло, он читал ей вслух ту единственную книгу, что взял с собой: про англичанина, который в детстве попал в плен и был продан в рабство турками. Хоть книга и не предназначалась для дамского чтения, Фебе было интересно. Ей, конечно, хотелось поговорить о том, что произошло утром, но он вел себя так, будто ничего особенного и не было.
Джеймс же, поглаживая пальцами выпуклые «крестики» вышивки, понимал, чего она ждет, но что он мог ей сказать? Что поддался соблазну, не совладал с похотью, дал волю низменным страстям?
Господи, какое же он чудовище!
Даже сейчас, проклиная себя за невоздержанность, он сгорал от желания снова прикоснуться к ней, услышать ее тихие вскрики и страстные стоны, почувствовать тяжесть грудей в своих ладонях, ощутить мягкость бедер, — выпить эту сладкую радость до дна. Она была как родниковая вода в иссохшей пустыне его души.
Настоящий джентльмен оставил бы ее в покое, и до сего утра он как раз считал себя таковым.
Тревельон отвел взгляд как раз в тот момент, когда карета вдруг резко накренилась и Феба подняла голову.
— Где мы?
— На краю света, — отозвался он сухо, всматриваясь в темноту за окном.
Ему и в голову не приходило, что когда-нибудь вернется сюда, да и сейчас он не был до конца уверен, что радуется возвращению… или страшится воспоминаний о собственном поражении.
Что касается Фебы, она, похоже, вовсе не испугалась — скорее напротив: предвкушала приключение.
Тревельон опустил занавеску.
— Мы в Корнуолле — уже давно, примерно с полудня.