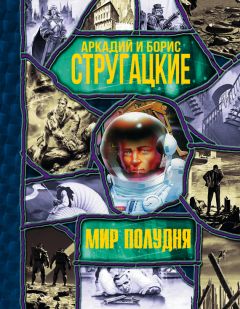Что касается Жюстины, то кто бы сказал, что не знает другой, глупой ее стороны? Культ удовольствия, мелкая суета, желание произвести впечатление на тех, кто ниже ее, высокомерие. Если она хотела, то была утомительно требовательной. И еще это орошение деньгами… Я скажу только, что во многом она рассуждала, как мужчина, и в своих действиях любила свободную вертикальную независимость мужского кругозора. Наша близость имела странный рассудочный характер. Довольно быстро я понял, что она умеет безошибочно читать чужие мысли. Идеи приходили к нам одновременно. Помню, как-то раз испугался, что в ее голове зазвучала мысль, только что пришедшая мне на ум: «Наша связь не должна продолжаться дальше: мы уже исчерпали все ее возможности и, в конце концов, за плотными узорами чувственности мы обнаружим дружбу столь глубокую, что навсегда станем рабами друг друга». Если хотите, это был флирт истощенных опытом умов, который кажется более опасным, чем любовь, основанная на половом влечении.
Зная, как сильно она любила Нессима, и сам любя его, как самого себя, я не мог думать об этом без ужаса. Она лежала около меня, глядя на расписанный херувимами потолок. Я сказал: «Это не может ни к чему привести: роман бедного школьного учителя и женщины, принадлежащей александрийскому высшему обществу. Как будет горько, когда все закончится светским скандалом и тебе придется решать, как избавиться от меня». Жюстина терпеть не могла выслушивать правду. Она приподнялась на локте и, приблизив свое лицо к моему, долго смотрела своими прекрасными встревоженными глазами: «У нас нет выбора, — сказала она хриплым голосом, который я так полюбил. — Ты говоришь так, как будто мы можем выбирать, а мы для этого не настолько сильны или порочны. Все это — лишь часть эксперимента, который проводит над нами кто-то другой, возможно — сам город».
Я помню, как она сидела у портнихи в окружении зеркал, примеряя шагреневый костюм, и говорила: «Посмотри! Пять разных изображений одного человека. Если бы я была писателем, я постаралась бы достичь многомерности изображения героя — нечто вроде эффекта призмы. Почему люди не могут показать себя с разных сторон одновременно?»
Потом она зевнула и закурила; сидя на кровати, обняв руками свои стройные лодыжки, она медленно, неправильно декламировала прекрасные строки старого греческого поэта о любовных историях давно прошедших времен. И, слушая, как она произносит эти строки, нежно касаясь каждого слога вдумчивого ироничного грека, я еще раз почувствовал странную двусмысленную силу города — его плоский, созданный наносами ландшафт, и его истощенное жеманство — и я знал, что она была истинной дочерью города, но гибрида, сплава.
С таким чувством она дошла до тех строк, где старик отбрасывает в сторону древнее любовное послание, так тронувшее его, и восклицает: «Печально выхожу я на балкон; что угодно, лишь бы прервать эту цепочку мыслей, даже просто увидеть легкое движение в городе, который я люблю, на его улицах, в его магазинах!» И затем сама толчком открывает ставни, чтобы выйти на темный балкон, парящий над городом разноцветных огней. Вечерний ветер, налетающий с границ Азии. Ее тело на мгновение забыто.
«Принц» Нессим — это, конечно, шутка; по крайней мере, для торговцев и одетых в черное коммерсантов, которые видели, как он бесшумно спускается по Канопической улице в большом серебристом «роллс-ройсе» с бледно-желтыми колесами. Прежде всего, он был не мусульманином, а коптом[5]. Так или иначе, но прозвище, приставшее к Нессиму, было величественно на фоне того обычного стяжательства, на котором основана природа истинных александрийцев. У него была репутация человека эксцентричного. Во-первых, деньги ему требовались только для того, чтобы их тратить; во-вторых, он не завел холостяцкой квартиры и, судя по всему, хранил верность Жюстине — неслыханное положение вещей! Что же касается денег, то он был настолько богат, что испытывал к ним чувство отвращения и никогда не имел их при себе. Он тратил деньги, как это принято у арабов, оставляя расписки хозяевам магазинов; его чеки принимались в ночных клубах и ресторанах. И каждое утро Селим, его секретарь, отправлялся на машине проследить путь следования хозяина минувшим днем и оплатить все долги, сделанные на его протяжении.
Подобное отношение к жизни считалось эксцентричным и своевольным, в особенности теми обитателями города, чьи грубые и лакейские предубеждения не давали им возможности понять, что такое «стиль» в европейском смысле этого слова. Но Нессим был рожден для такого образа жизни, а не просто обучился ему; в этом мирке обдуманного похотливого предпринимательства он не мог найти области действия для духа, изысканно нежного и созерцательного. Наименее напористых людей он настраивал против себя своими поступками. Многие объясняли его манеры иностранным образованием, но на самом деле Германия и Англия мало повлияли на Нессима, а только привели в замешательство и сделали совершенно неподходящим для жизни в городе. Германия привила ему вкус к метафизике в разрез того, что являлось истинно средиземноморским сознанием, в то время как Оксфорд постарался сделать Нессима педантичным, но преуспел лишь в развитии его философской привязанности к одному месту, где он, однако, не мог заниматься живописью, которую любил более других искусств. Он много размышлял и страдал, но ему не хватало решительности — самой необходимой вещи для того, кто живет по привычке.
Нессим был не в ладах с городом, но, поскольку его огромное состояние требовало ежедневных контактов с деловыми людьми, те обращались с ним с забавной снисходительностью и терпимостью; так жалуют людей с некоторыми умственными отклонениями. Поэтому не стоило удивляться, столкнувшись с Нессимом в его офисе — этом саркофаге из стали и стекла, — где он сидел за огромным столом, ел черный хлеб с маслом, одновременно читая Вазари и не глядя подписывая деловые письма или расписки. Он обращал к вам свое бледное миндалевидное лицо с замкнутым, отсутствующим выражением. И все же где-то сквозь эту мягкость проходил железный стержень: его служащие всегда удивлялись, обнаруживая, что, несмотря на вечно отсутствующий вид, не было такого нюанса в делах, о котором их хозяин не был бы осведомлен. Для своих служащих он был кем-то вроде оракула — и все же (они вздыхали и передергивали плечами) им казалось, что ему все равно. А если человек не заботится о прибыли, в Александрии это признак сумасшествия.
Я знал их в лицо за много месяцев до нашей встречи — подобно тому, как я знал каждого в городе. В лицо и понаслышке: поскольку их выразительный, властный, нетрадиционный стиль жизни составил им дурную славу среди наших провинциальных горожан. Про Жюстину говорили, что у нее много любовников, а Нессима считали мужем, закрывающим глаза на неверность жены. Несколько раз я видел, как они танцуют вместе, он — стройный, с высокой, как у женщины, талией и длинными красивыми руками, а рядом — миловидная головка Жюстины — глубокий скос арабского носа и эти полупрозрачные глаза, увеличенные беладонной. Она поглядывала вокруг себя, как полутренированная пантера.