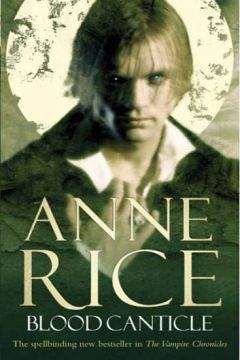владелец которого, прикрыв лицо журналом, уснул среди голландских трубок.
Безмолвный проход, ведущий в недра виллы.
Кто-то из них играл на пианино. Я прислушался. Пандора, и музыка, как всегда, проникнута восхитительным мраком, но она больше, чем прежде, напоминает бесконечное начало – тема, постоянно ведущая к кульминации, которая никогда не наступит.
Я поднялся по лестнице и вошел в гостиную. О, сразу можно определить, что это – дом вампира: кто еще сможет жить при свете звезд и нескольких беспорядочно расставленных свечей? Блеск мрамора и бархата. А там – Майами, где никогда не гаснут огни.
Арман все еще играл с Хайманом в шахматы и проигрывал. Дэниел лежал в наушниках и слушал Баха, то и дело поглядывая на черно-белую доску, чтобы проверить, сдвинулись ли с места фигуры.
На террасе, лицом к воде, зацепившись большими пальцами за задние карманы, стояла Габриэль. Одна. Я подошел к ней, поцеловал ее в щеку и заглянул ей в глаза; получив наконец скупую улыбку, которой жаждал, я повернулся и побрел назад, в дом.
В черном кожаном кресле сидел Мариус и читал газету, сложив ее, словно джентльмен в частном клубе.
– Луи уехал, – сообщил он, не отрываясь от чтения.
– Что значит – уехал?
– В Новый Орлеан, – сказал Арман, не отводя взгляда от шахматной доски. – В вашу квартиру. Туда, где Джесс видела Клодию.
– Самолет ждет, – добавил Мариус, читая газету.
– Мой человек может отвезти тебя на взлетную полосу, – сказал Арман, продолжая партию.
– В чем дело? Что это вы такие заботливые? С чего мне ехать за Луи?
– Думаю, тебе стоит привезти его обратно, – сказал Мариус. – Не нужно ему оставаться в той старой квартире в Новом Орлеане.
– Думаю, тебе стоит выбраться отсюда и что-то предпринять, – сказал Арман. – Ты слишком долго просидел в своей норе.
– А, вижу, что у нас будет за община: советы со всех сторон, все краем глаза следят друг за другом. Почему вы вообще отпустили Луи в Новый Орлеан? Что, нельзя было его остановить?
Я приземлился в Новом Орлеане в два часа ночи. Оставил лимузин на Джексон-сквер.
Как все чисто, новые плиты на тротуаре, цепи на воротах, чтобы бродяги не спали на траве вопреки двухсотлетнему обычаю. Кафе и бары заполнены туристами, а раньше здесь были прибрежные таверны, очаровательные гнусные местечки, где охота становилась неотразимой, а женщины были такими же бандитками, как и мужчины.
Но я любил это место, и всегда буду любить. Краски остались прежними. И даже на холодном, порывистом январском ветру в городе царила тропическая атмосфера, на нее влияли ровные мостовые, низкие здания, вечно движущееся небо, косые крыши, на которых поблескивают ледяные капли дождя.
Я медленно направился прочь от реки, впитывая исходящие от тротуаров воспоминания, слушая жесткую духовую музыку рю Бурбон, а затем свернул в тихую влажную темноту рю Рояль.
Сколько раз проходил я этим маршрутом в старые времена, выбравшись с набережной или из оперного театра, сколько раз останавливался я на этом самом месте, чтобы вложить ключ в скважину замка на воротах?
О дом, где я прожил отрезок человеческой жизни и где дважды чуть не погиб.
В старой квартире кто-то был. Кто-то, кто двигается тихо, но под чьими ногами скрипит паркет.
На первом этаже за зарешеченными окнами – аккуратный затемненный магазинчик: фарфоровые безделушки, куклы, кружевные веера. Я поднял глаза к балкону с коваными железными перилами; я вообразил, что там на цыпочках стоит Клодия и смотрит на меня, сжимая пальчиками перила. По плечам струятся золотые волосы, в них – длинная полоска фиолетовой ленты. Моя маленькая бессмертная шестилетняя красавица: «Лестат, где ты был?»
Вот чем он занимается, не так ли? Представляет себе подобные вещи.
Стояла мертвая тишина, то есть если не обращать внимания на трескотню телевизоров за зелеными ставнями и старыми, увитыми плющом стенами, на хриплый шум Бурбон-стрит, на мужчину и женщину, завязавших крупную ссору в доме на той стороне улицы.
Но рядом – никого, только сверкающие мостовые и закрытые магазины да большие неуклюжие машины, припаркованные на тротуаре, – на их горбатые крыши беззвучно падает дождь.
Некому было заметить, как я отошел, развернулся и, как встарь, быстро подпрыгнул на балкон, по-кошачьи тихо опустившись на пол. Через грязное стекло французского окна я заглянул в комнату.
Пусто, поцарапанные стены, какими их оставила Джесс. Наверху прибита доска, как будто кто-то однажды пытался проникнуть внутрь, но попался; столько лет – а пахнет паленым и углем.
Я бесшумно снял доску, но оставался внутренний замок. Получится ли у меня использовать новую силу? Смогу я заставить его открыться? Почему мне так больно думать об этом – о ней, о том, что в тот последний трепетный момент я мог бы ей помочь, мог бы свести вместе голову и тело, пусть даже она собиралась убить меня, пусть даже не произнесла моего имени.
Я посмотрел на замок: «Повернись, откройся». И сквозь слезы я увидел, как дрогнула щеколда, услышал, как скрипнул металл. Легкий спазм в мозгу, старая дверь выскочила из покоробившейся рамы, петли застонали, как будто ее распахнул сквозняк.
Он стоял в холле и заглядывал в комнату Клодии.
Пиджак стал покороче и не такой широкий, как старинные сюртуки, но он был так похож на себя из прежних времен, что боль стала невыносимой. Я не мог пошевелиться. Он выглядел словно призрак, густые черные волосы растрепаны, как в былые дни, в зеленых глазах – меланхоличное удивление, руки болтаются по бокам.
Естественно, он не стремился специально вписываться в старый контекст. Но призраком в этой квартире, где Джесс так перепугалась, был он сам, здесь Джесс уловила леденящие душу отголоски прежней атмосферы, которой мне никогда не забыть.
Шестьдесят лет провело здесь семейство нечестивцев. Шестьдесят лет – Луи, Клодия, Лестат.
Смогу ли я услышать клавикорды, если постараюсь? Клодия, играющая своего Гайдна, поющие птицы – их всегда будоражил этот звук, вся эта музыка, вибрирующая в хрустальных украшениях, свисающих с расписных стеклянных абажуров масляных ламп, и в трубах, даже в тех, что проходили рядом с задней дверью, перед изогнутой железной лестницей.
Клодия. Лицо, созданное для медальона или для овальной миниатюры на фарфоре, который нужно хранить в ящике вместе с локоном. Но как бы ей был ненавистен этот образ!
Клодия, вонзившая нож мне в сердце; она поворачивала его и смотрела, как по моей рубашке льется кровь.
«Я положу тебя в гроб, отец. Но ты уже никогда не встанешь».
«Тебя я убью первым, мой принц».
Я увидел маленького смертного ребенка, лежащего среди грязных одеял, ощутил запах болезни. Я увидел черноглазую