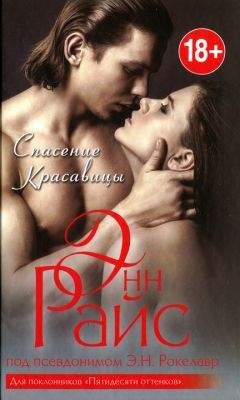Для меня всегда было огромным облегчением возвращаться в привычную упряжку к Тристану, Джеральду и другим нашим «конькам» впереди большого экипажа. Хотя я так и не смог привыкнуть к тому, как показывают пальцем горожане на роскошный выезд и одобрительно что-то бормочут. Надо сказать, порой именно горожане становились для нас самыми ужасными мучителями. Немало находилось молодых людей и девушек, которые ничего так не любили, как наткнуться на снаряженную упряжку, молча и беспомощно ожидающую на краю дороги своего кучера или временного господина, и приняться мучить нас без всякой жалости, дергая за конские хвосты и отпуская их, чтобы пышные волосы щекотали нам ноги. Или похлопывали по гениталиям, заставляя звенеть прицепленные к ним, отвратительные колокольчики.
Однако самое худшее наступало, когда к нам подступал какой-нибудь решительный малец или девчонка с целью «накачать» до крайности чей-то причинный орган и заставить его извергнуть содержимое. И как бы ни любили друг друга «лошадки», все ржали сквозь удила над жертвой подобного конфуза, прекрасно зная, как тот держался изо всех сил, чтобы не кончить, когда чьи-то руки гладили и теребили его причиндалы. Разумеется, если обнаруживалось, что кто-то из «коньков» кончал, его сурово наказывали. И баловавшимся с нами горожанам об этом было прекрасно известно. Ведь у хорошего «коня» плоть целый день должна быть тверда как камень, а потому любое ее удовлетворение запрещалось.
Первый раз, когда со мной проделали такую злополучную шутку, мы были впряжены в экипаж лорд-мэра: нам предстояло везти его от фермы в городок, к его прелестному особняку на главной улице. Мы дожидались, когда появятся наконец мэр с супругой, когда меня вдруг окружили хулиганистые сельские мальчишки и принялись безжалостно возбуждать моего приятеля. Я пытался увернуться от их рук, ерзая и подаваясь в упряжи назад, даже сквозь удила умолял их отстать (хотя говорить нам тоже запрещалось), однако они с таким усердием меня «натирали», что я не выдержал и извергся прямо на руки одному из негодяев. Тот на чем свет обругал меня, будто я осмелился сделать с ним что-то невообразимо неприличное, а потом еще имел наглость пожаловаться нашему вознице.
Я еще по глупости надеялся, что мне позволят что-то сказать в свою защиту. Но «коням» ведь запрещено разговаривать! Это бессловесные, покорные твари.
Когда мы вернулись в конюшню, меня разнуздали и подвели к одному из позорных столбов. Опустившись коленями на сено, я пригнулся, чтобы мне закрепили голову и руки в деревянных колодках. Так я оставался до прихода Гарета, который тут же набросился на меня с ругательствами. А уж по этой части наш Гарет был большой мастак, особенно как войдет в раж!
Рыдая, я умолял его позволить мне все объяснить. Хотя мне уже следовало бы знать, что все это совсем не важно.
Гарет смешал мед с мукой, поясняя мне по ходу, что именно он делает, и вымазал мне этим и зад, и член, и живот, и даже соски. Гадость эта, мгновенно приставшая к коже, была чудовищным уродством в сравнении с изяществом сбруи. В завершение Гарет той же дрянью вывел у меня на груди хорошо заметную букву «Н», которая, как он объяснил, означала «наказание».
После этого на меня навесили старую тяжелую упряжь и запрягли в тележку чистильщика улиц — единственно подходящее место для раба с подобной отметкой. И очень скоро я понял, в чем суть моего наказания. Даже когда я бежал рысью — что само по себе непросто с неуклюжей и неповоротливой тележкой мусорщика, — ко мне на мед слетались мухи. Они тучей роились и зудели вокруг моей груди, седалища, интимных мест, донимая меня просто невообразимо.
Наказание это длилось несколько часов, и к концу дня мне казалось, что вся моя выдержка и покорное принятие постигшей кары, как-то помогавшие держаться, уже полностью иссякли. Наконец меня пригнали домой, то есть в конюшню, и опять приковали к позорному столбу. И любому рабу, идущему отдыхать на задний дворик, позволено было меня, совершенно беспомощного, попользовать — хоть в рот, хоть сзади, уж как кому больше подойдет.
Это было отвратительное сочетание унижения и страшного неудобства. Но самое скверное — что я при всем этом испытывал глубочайшее раскаяние. Мне было невероятно совестно, что я оказался таким гадким «конем». Хотя одновременно во мне сидело и какое-то тайное смешливое злорадство. Ну да, сплоховал! Теперь я поклялся, что больше никогда так не подставлюсь. Цель, конечно, трудная, но не так уж и недостижимая.
Конечно же, достигнуть ее мне не удалось. За прошедшие в конюшне месяцы было немало случаев, когда городские подростки мучили меня подобным образом, и у меня далеко не всегда получалось сдержаться. Самое меньшее, в половине таких случаев меня на этом ловили и наказывали.
Но наиболее суровое наказание постигло меня, когда по собственному побуждению, не в силах противостоять внезапному порыву, с ласками и поцелуями потянулся к Тристану, и меня на том поймали. Мы находились в нашем стойле, и я решил, что о нашей близости уж точно никто не прознает. Однако мимо случилось проходить одному из конюхов…
Гарет свирепо накинул на меня уздечку, выволок из конюшни и безжалостно высек ремнем. Я буквально онемел от стыда, когда Гарет накинулся на меня с негодованием: как, мол, я посмел так себя вести?! Я что, не хочу радовать своего хозяина? Я закивал головой, по лицу покатились слезы. По-моему, еще никогда за все свое долгое служение мне не хотелось кому-то настолько угодить.
Когда Гарет принялся надевать на меня сбрую, я все еще гадал, как же он меня накажет. Довольно скоро это прояснилось. Тот фаллос, что предполагалось в меня вставить, конюх сперва опустил в какую-то янтарного цвета жидкость, приятно отдающую специями, от которых, едва в меня пропихнули этот причиндал, анус начало неимоверно жечь.
Гарет выждал немного, пока я хорошенько это прочувствую и начну дергать боками и ныть.
— Обычно мы приберегаем это средство для слишком уж вялых лошадок, — объяснил он, пришлепнув меня по корме. — Это быстренько их взбадривает! И они всю дорогу при каждом удобном случае пытаются потереть свою задницу, чтоб хоть немного унять зуд. Но тебе, красавчик, это нужно не в качестве горячительного, а в награду за непослушание. Чтоб тебе не захотелось еще когда-нибудь согрешить с Тристаном.
Меня быстро вывели во двор и впрягли в коляску, отсылаемую за город. Постыдно проливая слезы, я старался как можно меньше взбрыкивать бедрами, однако ничего не мог с собой поделать. И почти сразу остальные «коньки» стали потешаться надо мной, язвительно спрашивая сквозь удила: «Ну как тебе, Лоран?» или «Тебе уже лучше, парень?». В ответ я молчал, сдерживая приходившие мне на ум мрачные посулы. Ведь в нашем дворике от меня еще никому не удавалось скрыться. Но какой смысл в таких угрозах, когда никто, собственно, и не хотел меня избегать.