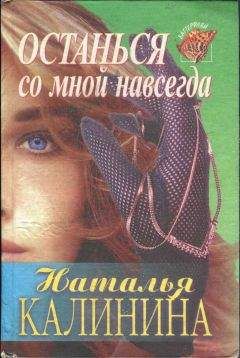— Ты хочешь сказать, мама… — Вероника нервно теребила край скатерти. — Мама пыталась покончить с собой, как раз когда на нее свалилась вся эта слава?
Отец кивнул.
— Ты правильно выразилась — свалилась. Думаю, она вообще была не готова к славе — точнее, ей не хотелось становиться знаменитостью… Почему, известно только ей одной. Вполне возможно, что весь этот шум вокруг ее имени и вокруг того фильма, в котором она сыграла главную роль, напомнил ей о чем-то, касающемся ее пребывания в Риме… Но я лучше расскажу тебе все по порядку. Итак, я узнал о том, что ей присудили «Оскара», а через некоторое время снова оказался в Лос-Анджелесе, где у меня были кое-какие дела. Вот я и подумал: почему бы мне не заехать к ней и не поздравить с успехом? Впрочем, поздравления были всего лишь предлогом — на самом же деле мне просто хотелось удостовериться в том, что у нее все в порядке и она оправилась от своей душевной боли. Покончив с делами, я купил цветы и поехал к ней.
Мы с ней не обменялись координатами, но, как ты знаешь, у меня хорошая зрительная память, и я запомнил, где она живет, после того единственного раза, когда подбросил ее на такси домой. У подъезда толпились репортеры и поклонники, жаждущие заполучить ее автограф — в общем, все, как и полагается, когда человек становится знаменитостью. Как ни странно, меня пропустили. Дверь мне открыла девушка, которая снимала вместе с ней квартиру. Она сказала, что Констанс на прошлой неделе увезли в больницу, но не стала объяснять, что с ней. Я узнал у нее адрес больницы и сразу же поехал туда.
Когда я увидел Констанс — то есть твою маму, — все внутри у меня перевернулось. Я сразу догадался, в чем дело: у нее были перебинтованы запястья. Она была очень бледной и неестественно спокойной. «Я вскрыла себе вены, — сказала она, хоть я ни о чем ее не спрашивал. — Я легла в ванну и вскрыла себе вены, но мне не дали умереть. Скажите, разве это справедливо, когда другие решают за нас, жить нам или нет? Разве человек не вправе сам распоряжаться собой?» И добавила, что цветы, которые я ей принес, смотрелись бы намного лучше на ее могиле.
Подробности происшедшего я узнал от врача. Ее вытащила из ванны та девушка, которая жила с ней, она же и вызвала «скорую помощь». Констанс сделала это ночью, думая, что ее подруга спит и ей никто не помешает. Но ее подруге, к счастью, в ту ночь не спалось, и она вышла на кухню выпить чаю. Она услышала шум воды и удивилась — что это Констанс вздумалось принимать ванну среди ночи? Когда прошло несколько минут, а шум воды все не прекращался, девушка подумала, что Констанс, должно быть, уснула в ванне, и решила пойти ее разбудить — дверь их ванной не запиралась… Врач сказал, что Констанс потеряла очень много крови, и если бы прошло еще хоть несколько минут, ее бы уже не удалось спасти.
Она пролежала в больнице около двух недель, и я каждый день навещал ее. Я задержался в Лос-Анджелесе из-за нее, о чем, разумеется, я ей не говорил. Не могу сказать, чтобы она была рада моим визитам, но они не были ей неприятны. Скорее ей было просто все равно, прихожу я или нет. А я смотрел на нее и думал: «Эта девушка погибнет, если ее оставить одну. Что будет, когда ее выпишут из больницы? Ведь она может снова натворить глупостей». Она все еще была настроена очень пессимистично — точнее, в ней отсутствовала воля к жизни. И вообще она казалась мне такой беспомощной и ранимой, что я был уверен, она просто не сможет жить самостоятельно. Как-то я спросил у нее, не заключила ли она уже контракт на свой следующий фильм — ведь теперь, когда она стала знаменитостью, предложения должны были посыпаться на нее со всех сторон. Она ответила, что больше никогда не будет сниматься и даже слышать не хочет о кинематографе. Признаюсь, я был удивлен, но предпочел не лезть к ней с расспросами. Я просто поинтересовался, чем она собирается заниматься в дальнейшем. Она ответила, что и сама еще этого не знает и вообще у нее ни к чему не лежит душа… Тогда я сказал: «Выходи за меня замуж, и тебе никогда не придется думать о том, как заработать себе на жизнь». Я сам удивился, когда произнес эти слова — будто кто-то подсказал их мне. До этой минуты у меня и в мыслях не было предлагать ей стать моей женой. Это было сущим абсурдом: мы с ней были едва знакомы, она не питала ко мне совершенно никаких чувств, даже самой элементарной симпатии, а просто терпела мое общество, потому что оно помогало ей скоротать время и немного скрашивало скуку пребывания в больнице. Я же не испытывал к ней ничего, кроме жалости и чисто отеческой нежности, как к больному ребенку… А еще я очень тревожился за нее — почему-то я принимал близко к сердцу судьбу этой девушки. Тревога, наверное, и заставила меня сделать ей предложение, ведь, только став ее мужем, я мог быть всегда рядом и заботиться о ней по-настоящему. Впрочем, я был уверен на все сто, что она ответит мне отказом. Как ни странно, она согласилась. Она не сказала мне «да», а просто пожала плечами, как будто ей было совершенно все равно, станем мы мужем и женой или нет.
Мы поженились тем же летом, и я увез ее к себе в Нью-Йорк. Я думал, что вначале нам будет трудновато ужиться под одной крышей и что мы будем долго привыкать друг к другу, ведь мы были совершенно чужими людьми. К моему удивлению, особых трудностей не возникло. Помогло, наверное, актерское дарование твоей мамы — она просто вошла в роль моей жены, потому что эта роль была удобна ей на данном этапе жизни, и блистательно играла ее не только на людях, но и дома. Правда, иногда она переигрывала… В конце концов я сказал ей: «Перестань притворяться. Ты ничем мне не обязана. Я не рассчитывал на твою любовь, когда предложил тебе выйти за меня замуж. Просто ты нуждалась в ком-то, кто взял бы на себя заботу о тебе, и мне захотелось стать этим человеком. Почему, я и сам не знаю». Сначала это ее оскорбило, но потом она сказала, что я прав и нам лучше быть честными друг с другом. Мы стали спать в разных комнатах, и у мамы появились свои интересы… Точнее, один-единственный интерес: итальянский язык. Она попросила меня нанять ей преподавателя и с невероятным усердием взялась за изучение итальянского. Занятия настолько увлекали ее, что ее апатию как рукой сняло — она вдруг ожила, стала жизнерадостной, какой раньше я никогда ее не видел. Теперь, уезжая в офис, я мог не бояться, что она натворит глупостей. Но все-таки на всякий случай просил домработницу присматривать за ней и не оставлять надолго одну, объясняя это тем, что жена страдает внезапными обмороками.
Когда у нас родилась ты, я перестал так тревожиться. Твое рождение преобразило ее. Из нервной девушки, страдающей перепадами настроения и депрессиями, она превратилась во взрослую уравновешенную женщину. Твое рождение к тому же в некотором смысле сблизило нас. Мы больше не были такими чужими друг другу, как раньше, потому что у нас появился один и тот же главный интерес в жизни — ты. Мы оба одинаково сильно любили тебя и более всего на свете желали лишь одного: чтобы наша дочь росла здоровой и счастливой.
— У меня самые замечательные родители на этом свете, — с улыбкой сказала Вероника. — Я всегда говорила всем и каждому: у меня самые замечательные родители, какие только могут быть… — Она запнулась, и ее лицо омрачилось при воспоминании о холодном, чтобы не сказать враждебном приеме, оказанном ей матерью сегодня утром. — Я думаю, что эти чертовы таблетки выбили ее из колеи, — прошептала она, скорее рассуждая сама с собой, чем обращаясь к отцу.
— Конечно, это все из-за таблеток, — уверил ее отец, уловив ход ее мыслей. — Вот увидишь, мама сама пожелает встретиться с тобой, как только окончательно поправится. Да у нее на всем белом свете нет никого дороже тебя — может ли она вдруг ни с того ни с сего охладеть к своей родной девочке? — Эмори подавил зевок и сделал слабую попытку улыбнуться. — Так что перестань сокрушаться по этому поводу и лучше расскажи мне, как твои дела. Съемки уже закончились?
— Закончились.
Вероника встала и принялась убирать со стола грязную посуду. Она еще не успела осмыслить то, что рассказал ей отец, и сейчас ее мозг работал на ускоренных оборотах, пытаясь как-то упорядочить всю эту внезапно свалившуюся на нее информацию. Нет, для нее вовсе не было открытием то, что ее родители не любят и никогда не любили друг друга, — это было видно невооруженным глазом. Но все остальное — слезы матери, когда она уезжала из Рима, ее попытка покончить с собой тогда, двадцать пять лет назад, ее пассивное отношение к жизни и к собственной судьбе — все это было для нее новостью и порождало в ее мозгу множество вопросов, ответы на которые она вряд ли когда-нибудь сможет найти… Хотя надо ли их искать? Кто она такая, чтобы лезть в душу другого человека? Ведь если бы мать захотела посвятить ее во все подробности своего прошлого, она бы давно уже сделала это сама. А теперь это прошлое было так далеко, что не имело никакого отношения к настоящему. В настоящем же лишь одно имело значение: чтобы мама поскорее поправилась и снова стала самой собой.