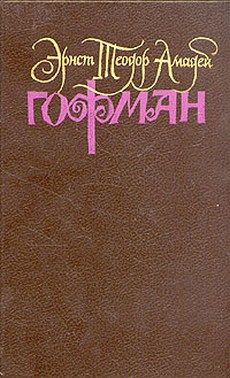«А я ведь раньше и этих слов не замечал», — думал Олави, снова протягивая Газели руку.
Что значат пять ярких звездочек,
Украсивших неба простор?
То знаки надежд и сомнений,
То нитей любовных узор.
— Будь эти нити хоть из чистого золота, а нам, дальним, домой пора, — послышались чьи-то голоса.
— Пора так пора — все вместе и уйдем. Вот только последний разок спляшем, — отвечали другие.
Я с тобой не расстался б, не расстался,
Даже если бы камни вопили,
А земля расступилась,
А деревья свалились,
А море стало бы черным —
Не расстался бы, не расстался.
— А нам — пора расставаться. До свиданья! — Молодежь прощалась, все протягивали друг другу руки и расходились в разные стороны.
Собираясь подойти к группе девушек, Олави почувствовал на себе чей-то взгляд. Он обернулся. На него смотрели глубокие, синие глаза. Лесная дева! Глаза были такими же мягкими и спокойными, как прежде, но было в них еще что-то, что больно пронзило Олави. Чувство вины точно пригвоздило его к месту. Он побледнел, отвел глаза, снова робко поднял их, но взгляд его невольно скользнул в сторону и встретился с другими глазами. Они тоже глядели на него — вопросительно, удивленно, а потом осыпали таким сверкающим снопом лучей, что все остальное вдруг померкло и кровь снова бросилась ему в лицо.
— До свиданья! — Он помахал шапкой сразу всей девичьей стайке и повернулся к ней спиной.
Молодежь рассыпалась во все стороны.
Я с тобой не расстался б, не расстался! —
послышалось с того берега реки, когда Олави шагал уже по отцовскому полю. Это пели парни из Метсякулма, они шли домой.
Не расстался б, не расстался, —
повторил про себя Олави, и на лице его появилось странное, решительное, почти восторженное выражение.
Сумерки весенней ночи тихо прокрались в избу и устроились в углу, подальше от огня.
В большом посудном шкафу что-то звякнуло.
«Он что, опять здесь?» — спросили друг у друга тарелки. Они стояли на самой верхней полке и поэтому ничего не видели.
«Здесь», — печально ответили снизу ложки.
Они говорили о сером мужском картузе, который лежал на полке для продуктов.
«Он уже вторую ночь здесь», — продолжали тарелки.
«Да», — вздохнули ложки.
«Приходит ночью и уходит ночью. Никогда этого раньше не бывало», — недоумевали тарелки.
«Да ведь девушка в таком возрасте», — усмехнулся сливочник, который стоял за кофейными чашками и ничего не видел, но зато хорошо разбирался в таких делах.
«И парень тоже!» — многозначительно добавила сахарница.
Тарелки с недоумением пожали плечами: легкомыслие сливочника и сахарницы было всем известно. Наступило молчание.
«Интересно, о чем они всё разговаривают?» — снова скрипнули тарелки.
«Ничего не слышно, они шепчутся», — с сожалением отвечали ложки.
Потом каждый из обитателей посудного шкафа углубился в собственные мысли.
— Как я ждала тебя! — шептала девушка, горячо обнимая юношу. — Я так боялась, что ты не придешь.
— Разве я мог не прийти к тебе? Я задержался потому, что мать сегодня долго не ложилась. Если бы ты знала, как я весь день тосковал по тебе, как ждал вечера. С той минуты, как я увидел твои газельи глаза, я ни о чем другом не могу думать.
— Ах, Олави! — шепнула девушка и еще крепче прижалась к нему.
— Я сегодня пахал поле и думал: будь ты цветком, я приколол бы тебя на груди и не расставался бы с тобой, будь ты яблоком, я носил бы тебя в кармане, вытаскивал бы тайком, говорил с тобой, и никто ничего не узнал бы.
— Как красиво ты говоришь, Олави!
— Я никогда не думал, что любовь такая удивительная… Мне хочется…
— Чего хочется? — шептала девушка.
— Задушить тебя в объятиях, — слышала она в ответ.
— На такую смерть я согласна, — отвечала она, — согласна хоть сию минуту.
— Нет, нет! — пугался он. — Пусть лучше никогда не кончается ночь.
Этот шепот слышали сумерки. Они скромно прикрыли глаза.
Снаружи раздался какой-то звук. Казалось, кто-то тронул входную дверь.
Две головы в глубине комнаты поднялись, и два сердца едва не остановились.
Снова какое-то движение, дверь в сени, видимо, распахнулась.
Олави сел, девушка испуганно прижалась к нему.
В сенях послышались шаги, отчетливые, тяжелые и вместе с тем неуверенные, — казалось, идет человек, который очень устал или не решил еще — продолжать ему путь или вернуться.
Олави побледнел: он узнал эти шаги, как узнал бы их среди тысячи других.
— Я должен идти! — Он сжал руку девушки и схватил картуз. Посуда на полках задребезжала.
Ощупью, ничего не видя, Олави добрался до двери, нашел ручку. У него не было сил повернуть ее, но он знал, что должен сделать это — ради той, которая дрожит в постели и еще больше ради той, которая стоит в сенях. Дверь отворилась и снова закрылась.
В сенях стояла старая женщина. Она стояла неподвижно, как изваяние, ее морщинистое лицо будто окаменело, в сумеречном свете выделялись скорбные глаза. Олави взглянул на нее и сжался, будто его придавила тяжелая ноша.
Оба на мгновение замерли. Потом женщина безмолвно повернулась и стала спускаться с крыльца. Олави двинулся за ней.
Женщина шла по дороге, понурив голову, бессильно опустив руки. Казалось, за эту ночь она превратилась в старуху.
Олави хотелось обогнать ее и броситься перед ней на колени. Но он не смел, да и ноги его не подчинились бы ему.
Они подошли к риге Канкала. Окно риги, как черное око, удивленно глянуло на них.
«Кто это такие? — спросило оно. — Уж не хозяйка ли из дома Коскела? А второй, который идет за ней, свесив голову, — кажется, это ее сын?»
«Сын и есть, — проверещало верхнее оконце. — Молодой Коскела ходил свататься. А мать ведет его домой — ха-ха-ха!»
«Раньше этой матери не приходилось по ночам искать своих сыновей», — проворчало окно.
Голова Олави опустилась еще ниже.
Старая женщина тяжело ступала вверх по горе Сеппяля.
«Чего это они по ночам бродят — мать с сыном? — звякнуло в колодце Сеппяля ведро на железной цепи. — Может, сын что-нибудь натворил?»
Олави казалось, что земля уплывает у него из-под ног.
У калитки, радостно виляя хвостом, их встретил Мусти, но, взглянув на хозяев, прижался к земле и замер.
«Почему хозяйка такая печальная? И куда ты ночью ходил?» — казалось, спрашивал он.
Олави отвернулся от пса и прошел мимо.
«Что?» — скрипнул флюгер, прибитый к высокой жерди у забора. Олави сам смастерил его в мальчишескую пору. И ничего не сказал больше флюгер, только еще раз повторил: «Что?»
Старая женщина молча поднялась на крыльцо. Она даже не оглянулась, но сын шел за ней следом. Ему и в голову не пришло уйти в свою каморку при бане.
Мать прошла через сени в кухню, подошла к окну и бессильно опустилась на стул. Сын стал перед ней, сжимая в руках картуз.
После минутного молчания, которое показалось Олави бесконечным, мать заговорила:
— Не думала я, что мне когда-нибудь придется совершить такую прогулку.
У Олави дрожали колени, ноги его подкашивались.
— Мне было стыдно, когда ты родился, потому что я родила тебя уже немолодой. Видно, мне придется стыдиться тебя и теперь, когда ты вырос. — Ее слова падали как свинцовые гири, и сын упал на колени.
— Мама! — прошептал он и спрятал голову в ее подоле. Плечи его задрожали.
Матери показалось, что под сердцем у нее вспыхнуло и разлилось по всему телу что-то очень теплое.
— Мама! — сказал сын. — Я обещаю тебе, что никогда больше не придется тебе совершать из-за меня таких путешествий. И… я…
Он не договорил.
Мать чувствовала, как тепло поднялось до самых ее глаз и готово было вылиться наружу.
— Что? — спросила она нежно. — Что ты хотел сказать, сынок?
Олави сдвинул брови, потом решительно вскинул голову и добавил:
— Я хочу на ней жениться!
— Жениться!? — Мать почувствовала, как ее пронзило холодом, и дыхание у нее перехватило.
— Олави, — сказала она дрожащим голосом. — Погляди мне прямо в глаза! Разве… разве случилось что-нибудь непоправимое?
Она ждала ответа, не смея перевести дыхание.
— Нет, — ответил сын, открыто глядя в глаза матери, — но я люблю ее!
Руки матери дрогнули, и она глубоко вздохнула. Потом она долго молчала и глядела куда-то вдаль, точно спрашивала там кого-то, что ей ответить.
— Это верно, — сказала она наконец, — жениться надо на той, которую любишь. Только на ней. Но в нашем роду никто не женился на батрачках… а что касается любви, то о ней тебе еще рано судить.