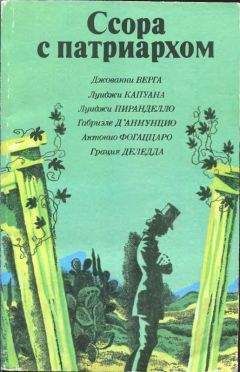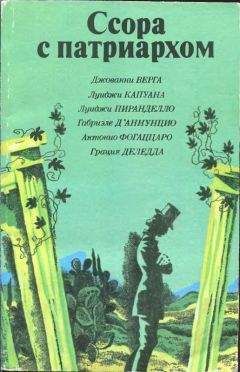Теперь же, толпясь в дверях на первом этаже, они шутя выталкивали друг друга под дождь, чтобы он окатил, как из ушата.
— Эй, ребята!.. Прекратите! — крикнул маркиз, выглянув в окно.
А ведь это веселье должно было бы радовать!
Но дождь, столь желанный, столь долгожданный, лишь опечалил его; шутки детей раздражали.
В последний раз он опять сказал Цозиме: «Нет дождя! Видите?.. Нет», и ее ответ: «А к чему спешить?» — не понравился ему. Правда, впечатление это сразу же стерлось, едва она добавила: «Марджителло не оставляет вам времени подумать о чем-нибудь другом!» И теперь, когда пошел дождь — да еще какой! — теперь, когда не осталось и этой незначительной преграды между ними, он не только не испытывал радости, но стоял у окна, с тоской уставившись на эвкалипты, — с их кривых ветвей и старых удлиненных листьев стекала вода, смывая толстый слой пыли, от которой они высохли и пожелтели, — стоял, уставившись в одну точку, и ему казалось, будто мечта, что вот-вот должна была осуществиться, быстро улетает прочь и он ничего не может поделать, не может удержать или вернуть ее.
И эта печаль, заполнившая его душу, становилась тем глубже и мучительнее, чем туманнее он представлял себе, какие обстоятельства и причины порождают его мрачные мысли.
Обновленный после ремонта дом был уже совсем готов, а обет, данный Цозимой, услышан на небесах. Маркизу только и оставалось, что взять ее за руку и предстать перед мэром, а потом и перед священником в подтверждение поговорки, которую любила повторять тетушка баронесса: «Браки совершаются на небесах». Однако в эту минуту ему казалось, что подтверждение, разумеется, будет, только вовсе не такое, о каком думал он и какого ожидали все вокруг.
И тут, будто прочитав его мысли, заговорил инженер:
— Синьорина Муньос, должно быть, очень рада сегодня. По правде говоря, она заслуживает счастья стать маркизой Роккавердина. Но думаю, что, если бы несколько месяцев назад кто-нибудь предсказал ей это, синьорина перекрестилась бы, как говорится, чтобы прогнать искушение.
— Я, наверное… тоже! — ответил маркиз.
— Так уж устроен мир: никогда не предугадаешь, что тебя ждет завтра. Нет ничего надежного ни для кого. Агриппина Сольмо… к примеру… Бог знает, чего она возомнила достичь!.. А что получилось? Сначала овдовела, а потом вышла замуж за пастуха из Модики, который, должно быть, еще и голодом ее морит…
— Напротив, он обращается с ней как с госпожой.
— Это она вам писала? Молодец! — продолжал инженер. — Не просто найти другую такую, как она, из ее сословия. Любая на ее месте, став хозяйкой, какой она была здесь, прежде всего подумала бы о своей выгоде и скопила бы деньжат. Она же и в мыслях этого не держала! А как скромна! Всегда оставалась сама собой, даже внешне. Никогда не снимала накидку, а ведь могла бы, не хуже многих других, носить шаль, какие теперь надевают все простолюдинки, даже самые бедные. А кроме того, она умеет молчать!.. Даже потом, когда не оставалось уже никакой надежды, она никогда, никогда ни словом не выказала ни обиды, ни гнева. Для нее маркиз Роккавердина был богом! И если кто-нибудь из сострадания или из желания подразнить, позлить говорил ей: «Маркиз мог бы и получше обойтись с вами!..» — и то и се — знаете, как судачат некоторые, — она сразу же обрывала: «Маркиз поступил правильно! Он сделал даже больше того, что должен был! Один только бог может воздать ему!» Мне рассказала об этом моя жена, а она слышала собственными ушами, причем ее не видели… Словом, маркиз, вам везет на женщин… Одна лучше другой!.. Спросите нотариуса Маццу, он вам расскажет, как можно попасться в ловушку!
Маркиз хотел было тут же остановить его, едва тот произнес имя Агриппины Сольмо. Но глубокая грусть, в которую ввергал его дождь, воспоминание о прошлом, которое пробудили слова инженера, неожиданное возвращение к былому растревожили его душу, заставив с легким чувством сожаления вспомнить и многое-многое другое. Потому что в конце-то концов во всем виноват был только он сам. Из кастового тщеславия, из желания перехитрить самого себя ом выдал ее замуж на таком чудовищном условии, нисколько не подумав о возможных последствиях.
Видя, что маркиз молчит, инженер подумал, что напоминание о прошлом ему неприятно, достал из кармана сигару, раскурил ее и стал прохаживаться по комнате, поглаживая бакенбарды.
Маркиз же, не отводя глаз от эвкалиптов, с которых потоками стекала дождевая вода, мысленно следовал за женской фигурой в белом, с черными косами под темно-синей накидкой; он следовал за ней по уже виденной им когда-то давно местности, мимо домишек, лепившихся по склонам горы и словно искавших у нее защиты от ветра, он следовал за ней и чувствовал, как его охватывает глухая ревность, совсем непохожая на ту, которую он испытал некоторое время назад… Мог ли он теперь сомневаться? Мог ли негодовать? Разве он не обрадовался, когда она уехала в этот далекий городок, спрятавшийся в изгибе горы, в один из домишек, лепившихся по ее склонам и словно искавших там защиты от ветра?
Он резко обернулся к инженеру, ходившему взад и вперед по комнате с сигарой во рту, поглаживая бакенбарды, и чуть было не сказал ему: «Ну зачем вы разворошили в моей душе этот еще тлеющий пепел?» Как будто это он, инженер, был виноват, что его охватила грусть, будто это он вызвал в его воображении меланхолически покорное лицо Цозимы, говорящей о печалью в голосе: «Зачем спешить? Марджителло все равно не оставляет вам времени подумать о чем-нибудь другом!»
И это было действительно так!
В те дни и часы, когда хлопоты по строительству и заботы о хозяйстве не поглощали его целиком, — а ему надо было подумать и о восстановлении сильно поредевшего от эпидемий стада, и о распашке целинных участков, и о приобретении зерна для посева, чтобы восполнить ущерб, нанесенный двумя ужасными неурожайными годами, — маркиз испытывал странное ощущение, будто идет по какой-то не очень твердой почве, которая в любую минуту может провалиться у него под ногами.
В такие дни и часы совесть не давала ему покоя, ему казалось, будто процесс может возобновиться и ему все еще грозит опасность, что какая-нибудь не замеченная на предварительном следствии улика наведет на его след, будто разоблачающие слова, сказанные им на исповеди, могли каким-то загадочным образом запечатлеться на беленных известью стенах комнатки дона Сильвио и внезапно проступить на них, подобно огненному библейскому пророчеству на пиру Валтасара[25], чтобы непременно погубить его; будто «колдовство» дона Аквиланте, не удавшееся прошлый раз, может не сегодня завтра, при каких-то неведомых обстоятельствах, дать результат; будто все прочитанное им в книгах, которые давал ему кузен Пергола, было несостоятельным вымыслом, обманом и он напрасно успокоился относительно земной и загробной жизни!
Однажды утром ему пришлось спуститься вместе с Титтой и плотником в мезонин, чтобы посмотреть, нет ли там среди сваленной в первой комнате мебели каких-нибудь еще пригодных столов.
Он спустился туда спокойно, без малейшего опасения, что воспоминание о распятии, подаренном церкви монастыря святого Антонио, может разволновать его.
А вышел оттуда еще более потрясенный, чем если бы снова увидел вдруг на прежнем месте истекающую кровью фигуру, пригвожденную к большому черному кресту и завернутую в рваную простыню.
На пожелтевшей от времени стене пространство, которое прежде закрывало распятие, сохранило свой первоначальный цвет, и отпечаток креста и тела Христова получился таким четким, что казалось, контуры эти на желтом фоне стены сделаны искусной рукой художника, который почему-то не смог завершить рисунок и раскрасить его.
Позднее маркиз прекрасно понял, отчего так получилось. Но первое внезапное впечатление было таким сильным, что он целый день не мог избавиться от него.
В другой раз, войдя в комнатку, где он заперся однажды, чтобы пустить себе пулю в висок, он вспомнил сцену, которая произошла между ним и Сольмо, прибежавшей туда в поисках его. И ему померещилось, будто он снова видит ее перед собой — она пристально смотрит на него горящими глазами и говорит: «Я теперь ничто для вашей милости! Вы гоните меня, будто бешеную собаку. Что я сделала? Что я сделала?» Только теперь ему показалось, что тогда он не заметил страшного выражения этих глаз, которые как будто хотели сказать ему: «Я все знаю! Но я молчу! И ваша милость тоже верит, будто это я убила Рокко Кришоне?.. Я знаю! Но я молчу!»
Подозрение это никогда еще не возникало у него. Почему же оно пришло ему в голову сейчас?
Короткие письма, которые время от времени она присылала ему, как бы для того, чтобы напомнить, что жива, разве не означали: «Я все знаю! До сих пор я молчала. Но могла бы и заговорить. Разве вы не сказали мне, вспомните, ваша милость: „Было бы лучше для тебя и для меня, если бы это ты убила его!“ Что вы имели в виду?» Ему показалось, будто он слышит, как она говорит это!