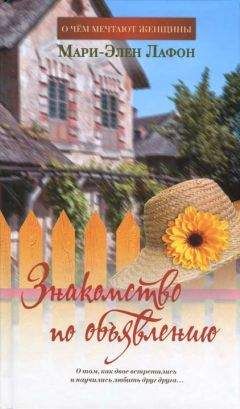Большие светлые глаза Изабель чем-то напоминали Анетте синеокий взгляд ее матери. Ее голос с трудом пробивался сквозь шум и беспрестанное бибиканье носящихся по площадке автомобильчиков, но от всей ее фигуры, от ее рук, скрещенных на животе, к которому она прижимала коричневую холщовую сумку, от наброшенного на плечи лилового жилета, от ее белого сдобного лица исходили тихая доброта и безмятежность. Мишель практически не проронил ни слова — высокий, статный, с широкой грудью и массивными руками, он лишь молча кивал, взглядом одобряя все сказанное женой.
У себя на севере Анетта с матерью существовали под сенью королевских фамилий, что немного скрашивало им будни. Особенной их любовью пользовалась английская королевская семья. Бельгийцы с точки зрения географии располагались слишком близко; казалось, протяни руку — и дотронешься. Действительно, что такое какие-то там двадцать километров. К тому же Бельгия, несмотря на замок Мон-Нуар, меньше всего походила на королевство; жители их городка запросто мотались туда за дешевой выпивкой и сигаретами в блоках, а молодежь по воскресеньям собиралась компанией и ездила просто так, прошвырнуться. Они — Анетта в том числе, — сбившись стайкой, неторопливо прогуливались по улицам, заходили в магазины — просто поглазеть, сравнить свою жизнь с чужой жизнью, денег все равно ни у кого не было, из всех покупок они могли себе позволить разве что сумку из кожзаменителя или какой-нибудь брелок, поэтому, возвращаясь домой, они увозили назад все свои неудовлетворенные желания, набивались вместе с ними в тесную машину, которая вливалась в густой поток других машин, медленно ползущих с переполненных стоянок в этот вечерний час. После Дидье Анетта больше не была в Бельгии, ни в пограничном городке, ни в иных местах этой страны, в которой не было решительно ничего королевского.
Другое дело — Англия; не зря же она называется Соединенное Королевство. Но там они не бывали. Вот Эрик наверняка увидит и Букингемский дворец, и смену караула; он обязательно выучит английский, без этого сейчас никуда. Сама Анетта успела забыть даже то немногое, чему ее учили в школе, дни недели и прочее; в голове болтались какие-то разрозненные обрывки: манди, тьюсди, хау ду ю ду, май нейм из… Английский ухнул туда же, куда ухнуло все остальное, не оставив никаких следов. Но королевская семья, правящая династия, Виндзоры — эти устояли! Они не отступали, с достоинством сносили бесконечные публичные оскорбления, торжествовали над недругами, презирали сплетни; своим царственным величием они воздвигали барьер на пути нахального безобразия, наступавшего из будущего, из двадцать первого века, из Европы, Китая и Индии, из всего огромного мира, кишащего горластыми бедняками, из мира, в котором больше нет постоянной работы и нормальных семей, где у каждого ребенка в школьном рюкзаке должен лежать мобильник, а в спальне стоять компьютер и собственный телевизор, иначе ему грозит с самого начала скатиться в разряд неудачников, отребья, жалких побирушек.
Дурные вести сыпались со всех сторон. Анетта чувствовала, как они грозной волной наваливаются на нее, страшные, непреодолимые, лишающие сил к сопротивлению; о них без конца бубнил телевизор, их, глотая слова, пересказывала дама из Фонда занятости, и еще одна, из отдела по проверке профессиональной компетентности, и даже молоденькая сотрудница собеса, сменившая мадам Флажель, с которой они были знакомы так давно, что перестали ее бояться; она-то их понимала, она много лет занималась семьей Дидье. В общем, надо было как-то защищаться. Как-то выкручиваться. С работой становилось все хуже; даже если открывалась вакансия, например консультанта в магазине, Анетту не брали, потому что она не умела делать того, что требовалось, не могла похвастать необходимым опытом, не говорила по-английски и к тому же не имела возможности каждый день мотаться в соседний город. А то, что она делать умела, никому было не нужно, да и что там такое она умела. Убирать квартиру, гладить белье, ухаживать за стариками. Она соглашалась и на такую работу, добросовестно ее выполняла и никогда не жаловалась, но, конечно, восторга не испытывала, хуже того, постоянно чувствовала себя униженной. У нее никогда не получалось наладить легкие отношения со своими работодателями — людьми, которым она помогала по хозяйству. От нее ждали непритязательной болтовни, а она молча купала стариков, молча готовила им протертые овощи, молча перестилала постели и собирала грязное белье. Она понимала, что больше ее не пригласят, предпочтут ей другую женщину, благо в претендентках недостатка не было, их, безработных, был легион, готовых чуть ли не драться за любое, даже самое невыгодное место; отдав по пятнадцать-двадцать лет окончательно захиревшему заводу или фабрике, они так и не приобрели профессии, ведь нельзя же считать профессией умение повторять один и тот же набор примитивных и однообразных действий. Анетта не любила попусту молоть языком, а наниматели принимали ее сдержанность за холодность и торопились навесить на нее ярлык копуши и рохли. Пытаться изображать общительность было бесполезно и противно — выходило фальшиво, и самой ей после этого делалось так гадко, словно ее стукнули по голове или высосали из нее всю кровь.
Чтобы непринужденно болтать с чужими людьми, надо обладать особым даром — она им не обладала. Теплота, внимательность, бесконечное терпение — все эти замечательные качества, которыми она была наделена в избытке, могли у нее проявляться только по отношению к действительно близким людям, а их были считаные единицы — мать, отец, двоюродная сестра, уехавшая с мужем в Канаду, одна-две школьные подруги, такие же замотанные жизнью, как она сама, но в первую очередь, разумеется, Дидье и Эрик, особенно Эрик — единственный сын, смысл ее существования и с некоторых пор — вместе с матерью — вся ее семья. Они не просто нуждались; они как будто все время жили на обдуваемом всеми ветрами юру, голые и замерзшие, держась из последних сил, чтобы не унесло очередным порывом.
Тогда-то они и придумали этот фокус. Сначала мать, а затем в игру включилась и Анетта. Они выбрали себе в «друзья» английскую королевскую фамилию, чтобы та своим сиянием озарила унылый горизонт их житья-бытья. Они приняли их всем скопом — от старинных членов семейства, облеченных самыми громкими титулами, до юных невест, только-только включенных в высокий круг: супруги и детишки, мальчики и девочки, все эти Сары, Дианы, Беатрисы, Евгении, Уильямы и Гарри — все, на кого падал отсвет миропомазания, оказались достойны попасть в число любимцев и занять свое достойное место. Анетта с матерью предпочитали не замечать размолвок, раздоров, разводов и прочих неприятностей, способных разрушить возведенный ими волшебный замок мечты. Они категорически не соглашались признавать, что и принцессы страдают и плачут, получают синяк под глазом, ходят нечесаные или гибнут в ужасной автокатастрофе в компании с любовником. Нельзя им так опускаться! Мать с дочерью оставались равнодушными к скандальным подробностям подобных жалких историй; их привлекали лоск старины, роскошные шляпы, сигарообразные автомобили, твидовые костюмы, шотландские морозы, благородная позолота, скачки в Эпсоме — то есть все то, что свидетельствовало о подлинном блеске и отделяло избранников судьбы от прочих смертных, заставляя тех держаться на почтительном расстоянии. Это увлечение стало для Анетты чем-то вроде малой религии, дающей силы преодолевать унизительные испытания серых буден.