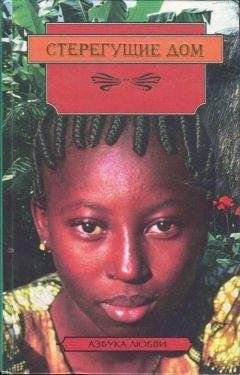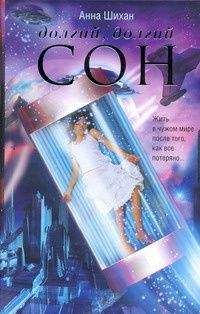Он все глубже погружался в забытье и очнулся, лишь когда Кантли тряхнул его за плечо.
— Обмозгуй это все, Пуп. Я еще загляну.
Он вышел.
Что ж, теперь это дело времени. Его так или иначе убьют, потому что говорить он не станет. Он вытянулся на койке, и сонный дурман смежил ему глаза.
Наутро он проснулся, весь налитой свинцовой тяжестью. За ночь он как будто успел забыть, что на свете бывают дождь и ветер и небо ночью одно, а днем другое. Да, надо было бежать из города, но эта возможность утрачена безвозвратно. Ссутулясь в своей унылой камере, Рыбий Пуп начал смутно сознавать, что в нем недостает чего-то, но не за счет способности думать и чувствовать. Те условия, в которых он вынужден был жить, обделили его какой-то чертой характера. Где-то близко брезжила догадка, что он сам некоторым образом стал пособником тех, кто навлек на него несчастье.
Рыбий Пуп был сыном народа, которому не достались в наследство воспоминания о доблестном прошлом как источник, питающий чувство собственного достоинства, не было у него и четкого представления о будущем, с которым грядет искупленье, а значит, не было и причин с надеждой смотреть вперед. Для него существовал только серый, убогий сегодняшний день. Бремя душевных привязанностей отягощало его не слишком, и все же его не манили превратности неизведанных путей, не влекла далекая и заветная цель. Ни один кумир в обозримых пределах не пленял его воображения, кроме разве что внешних примет стоящего над ним мира белых, которым он для самоутверждения рвался подражать. И не было у него ни традиций, ни корней, ни иной опоры, кроме разве что защитной черствости по отношению к себе подобным, без которой у него не хватило бы духу блюсти изо дня в день свою мелкую корысть; кроме личины, за которой он прятал свои истинные чувства в присутствии белых, да кроме тайной прихоти воображения, которую он, сам себе в том не признаваясь, мечтал исполнить.
Около двенадцати его привели в тесную комнатенку с высоким, забранным решеткой окном. Там сидел Джим. Рыбий Пуп тоже сел, и неясная улыбка взошла на его лицо, безотчетная улыбка, которая была его неотъемлемой особенностью, — улыбка, с которой ему, по всей вероятности, суждено было сойти в могилу.
— Ладно, Джим. Давай. Режь.
— Как это «режь»? — оторопел Джим.
— Скажи: «Говорил я тебе». Скажи: «Ничего другого нельзя было ждать», — пряча дрожащие руки, попытался отвести от себя нападение Рыбий Пуп.
— Зачем, — сочувственно сказал Джим. — Я пришел к тебе помочь, если это в моих силах.
— Не трогал я эту проклятую девку.
— Я знаю, что не трогал.
— Мама-то как?
— Неважно, Пуп. Ей этого не понять. Ты вот что… помни, это они тебе в отместку за то, что сделал Тайри.
— Папа сделал, что мог, — вздохнул Рыбий Пуп.
— Тут история нешуточная. Обвинение в попытке изнасиловать белую женщину…
— Женщина ни при чем. Это белые хотят меня таким способом заставить сказать то, что мне неизвестно. Что мне делать, Джим?
— Тебе нужен адвокат. Насчет Хита ты как?
— Нет. Хит не годится, не тот случай. Мне нужен такой, чтоб не спасовал перед белыми — чтобы сам им не дал спуску. Макуильямс мне нужен, вот кто…
— Ой ли? Вспомни, как он нагадил Тайри, — предостерег его Джим. — Думаешь, поможет?
— Если кто и поможет, так он.
— Тогда — на, пиши, что просишь его представлять твои интересы на суде. — Джим протянул ему карандаш и бумагу.
— Напиши лучше ты за меня. Рука не слушается…
Джим настрочил письмо Макуильямсу, Рыбий Пуп подписал. Ох и не понравится Кантли, что он обратился к Макуильямсу, но если есть человек, способный заставить Кантли призадуматься, то это Макуильямс.
Однако назавтра Макуильямс не пришел, не пришел он и послезавтра — а там и неделя прошла, но с ним не заговаривала ни одна живая душа. На девятый день ему объявили, что к нему опять посетитель. Это был Макуильямс.
— Я уж думал, вы не придете, — сказал Рыбий Пуп.
— Пришлось выдержать настоящий бой, пока пустили к тебе. А теперь, Пуп, расскажи мне по порядку все как было. Начни с начала и ничего не пропускай, даже если тебе что-то покажется несущественным.
Рыбий Пуп рассказал, умолчав о том, что получил от Глории погашенные чеки и замуровал их в камине.
— Девица была подослана, это очевидно, — сказал Макуильямс. — Она — не более как предлог упрятать тебя за решетку, застращать и таким образом выжать из тебя все, что ты знаешь о чеках.
— В том-то и дело, что я о чеках ничего не знаю!
— Слушай. Я подозреваю, что эта особа не явится подтвердить свои обвинения. Так что ты крепись. Когда тебя поведут на суд, я там тоже буду. Ничего не предпринимай, ничего никому не говори.
— А что мне еще-то остается, — прошептал Рыбий Пуп.
Дверь камеры захлопнулась за ним вновь, наступило нескончаемо долгое ожидание. Робкая надежда, что его все-таки не убьют, переросла в уверенность. Только бы унялись страхи Кантли, тогда его выпустят. Но унять страхи Кантли было не в его власти.
Прошло три недели, пока его вызвали в суд. Миссис Карлсон в зале суда не было.
— Ваша честь, — обратился к судье прокурор. — Ввиду душевного потрясения, которое перенесла истица, став жертвой нападения со стороны подсудимого, она находится в санатории.
— Непорядок, ваша честь, — возвысил голос Макуильямс. — Миссис Карлсон могла бы дать письменные показания, нет ничего проще…
— Истица страдает нервным расстройством, она не в состоянии связно изложить свои показания на бумаге, — возразил прокурор.
Потом Рыбий Пуп слушал, как Макуильямс убеждает суд, чтобы его выпустили под залог, но судья заявил, что «речь идет о тяжком преступлении и потому выпускать обвиняемого под залог не в интересах общества».
Наклонясь к своему подзащитному, Макуильямс зашептал:
— Боюсь, Пуп, тебе придется посидеть какое-то время. Женщина не появится, это теперь еще более очевидно. Я наводил о ней справки, девица — самого уличного пошиба. Ну, ты знаешь. Того же сорта, какие работают на Мод Уильямс… Кантли меньше всего устраивает, чтобы она пришла в суд давать показания. Я ведь от них камня на камне не оставил бы.
— Долго уж очень, — пожаловался Рыбий Пуп.
— Могло быть хуже, — напомнил Макуильямс.
Через неделю тюремный надзиратель принес ему письмо в распечатанном конверте. Рыбий Пуп с удивлением покосился на иностранные марки. Уж не от Глории ли? Он пригляделся — на марке значилось «République Française». Он вытащил из конверта листки бумаги и поискал глазами подпись. Вот она: «Зик». Мамочки! Значит, Зик во Франции…