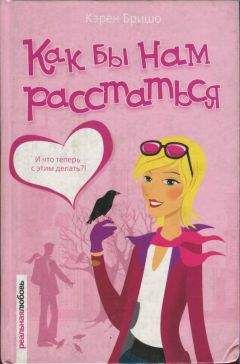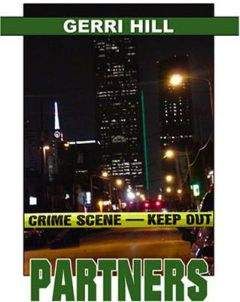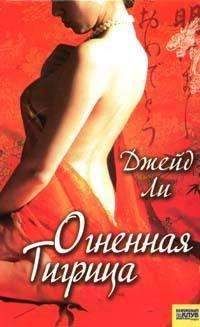Мне нравится мой кабинет, но руки у меня дрожат. Этот пекановый запах… Наверное, он просочился сюда из-под двери. Он воскрешает образ матери, пристающей со своими жалобами и упреками, цепляющейся, наскакивающей на отца…
«Вы двое прямо как пара скворцов. Все время наскакиваете друг на друга».
И я вспоминаю, почему мне недостаточно его наполненной солнцем улыбки. Почему стремление достать звезду… Но углубляться в это мне не хочется.
— Так о чем ты хочешь поговорить? — спрашиваю я Джону, предварительно скользнув за свой письменный стол, мою надежную защиту. — Садись.
Я горда тем, как небрежно у меня все это вышло.
Молчание.
Я поднимаю глаза.
Он не отрываясь смотрит на стул перед моим письменным столом, темные волосы упали вниз, и я не вижу его лица. Я только знаю, что…
— Джона, — шепчу я.
Боже мой, я не хочу тебя обижать, но я не могу…
Он ловит мою мысль еще до того, как я успеваю ее закончить.
— Потом, — говорит он. И поворачивается, чтобы выйти.
— Джонз! — в этот раз это скорее крик о помощи.
Он останавливается, но не оборачивается ко мне. И я не знаю, что сказать, поэтому жду, что он обернется, и тогда мне не придется ничего говорить.
* * *
— Мама жалуется, что с ней никто не хочет разговаривать, — сказала я Джонзу.
Это было во второй половине дня того воскресенья, когда я убежала из дома и мы сидели на качелях в центре парка и ели фисташки. Мы обычно запускали руку в глубину пакета, выбирали там орех побольше, разламывали скорлупу пополам, чтобы достать зеленоватую мякоть, и потом соревновались, кто сможет прожевать свою добычу как можно громче и неопрятнее. Обычно выигрывал Джонз, но и я изо всех сил старалась жевать так, как, по словам мамы, жевать было нельзя ни в коем случае. То есть с широко открытым ртом, так что видно, что ты ешь, и хлопая губами. Совсем здорово было, если изо рта свешивалась ниточка слюны или даже две, но мне никогда не удавалось достичь нужной вязкости.
— Но ты же с ней говоришь, — сказал Джонз, подбрасывая пустые скорлупки.
— Нет, не говорю. Все время говорит она. Она — говорит — мне.
— Родители всегда так. — Он даже набрал в грудь воздуха, слегка выпятив ее, как будто мысль, которую он высказал, была очень глубокой и важной. Затем он выпустил воздух. Грудь опала, и он потянулся к пакету за фисташкой. — Другие они только по телевизору. Но это все враки.
Я поковыряла носком песок. Джона закрутил цепи своих качелей так, что его ноги оторвались от земли, и стал вертеться вокруг своей оси. Чтобы не вытошнить съеденные фисташки, я закрыла глаза.
— Прости, — сказал Джонз, когда его качели перестали вертеться.
— Да ничего. Но с тобой-то мы разговариваем. Почему?
Он посмотрел на меня.
— Потому, что нам можно и не говорить.
Я нахмурилась.
— Нет, правда. — Он закрыл глаза. — Вот о чем я сейчас думаю?
— Тебе хочется еще фисташку, и потом тебе хочется опять покрутиться на качелях, пока я не блеванула на тебя.
Он открыл глаза.
— Вот видишь. Нам не обязательно говорить. Мы и так знаем друг друга.
Я жду, пока Джонз обернется ко мне, и тогда мне не придется ничего говорить.
На какой-то момент я становлюсь планетой, бешено вращающейся вокруг собственной оси и готовой врезаться в соседнюю планету и взорваться, разлетевшись на миллион миллиардов частиц… Затем он оборачивается и смотрит на меня.
И улыбается.
— Это тебе. — Он роется во внутреннем кармане куртки и бросает мне пакетик фисташек фабричной расфасовки.
Я наклоняюсь вперед и ловлю его. Пока — пока! — ничего не меняется.
Во всем виноват Юджин Шиффелин — поклонник Шекспира, нью-йоркский производитель лекарств, решивший, что в небе Нового Света должны парить все птицы, упомянутые великим бардом. Но это никак не получалось: то погибали дрозды, то жаворонки… А потом, году в 1890, Шиффелин ввез в страну скворцов.
У Шекспира скворцы упоминаются не так уж часто. Да что там — всего в одной строке. В одной из пьес о Генрихах, кажется, в «Генрихе IV». Но одной строки Шекспира было достаточно, чтобы в Нью-Йорк привезли сотню скворцов. Пернатые иммигранты поселились на задворках Американского музея национальной истории. Сначала все решили, что это мило, но потом они изгадили весь музей. К сегодняшнему дню первая сотня скворцов превратилась в двести миллионов, а то и больше птиц.
Пятьдесят лет назад скворцы уже водились на всем пространстве от Аляски до Флориды. Клевались, вопили, гадили, дрались, плодились и размножались. Как и их человеческие собратья, они душу вытрясали из тех птиц, которые осмеливались заявлять права на их законную североамериканскую собственность, разносили болезни, дрались за места для гнезд, пожирали все, что попадало в поле их зрения, и от этого гадили еще больше.
Департамент сельского хозяйства даже обнародовал рецепт пирога из скворцов. Но напрасно: думаю, для людей это было бы сродни каннибализму или чему-то в этом роде.
Стоя у окна (один из плюсов моего кабинета — неплохой вид из окна), я перебрасываю пакетик фисташек из одной руки в другую и сквозь покрытое морозным рисунком стекло смотрю на скворцов, прилепившихся к выступу стены. Из-за холода они нахохлились, и в солнечных лучах их черные перья отливают багряным, розовым, голубым и серым. Один скворец откидывает голову назад и разражается песней, чем-то напоминающей пение Кенни. Сидящий рядом хватает его за перья на спине.
Пространство за окном взрывается черными крыльями, и скворцы, как лемминги в тундре, густой волной срываются с выступа. Но, в отличие от леммингов, они благополучно садятся на страховочную сетку из деревьев, окаймляющих улицу.
— Уичита!
Я оборачиваюсь и вижу в дверях Дженет, охранницу музея.
— Привет, — говорю я.
Она входит и закрывает за собой дверь.
— Я просто хотела узнать… Я хочу сказать, у меня к тебе вопрос. Может быть, ты сможешь мне помочь.
Я с трудом сдерживаю вздох. Два часа комканого сна — недостаточная подготовка к такому разговору. Интересно, кем мне сегодня предстоит стать? Вчера я была Ральфом Лореном. На прошлой неделе была особая комбинация: дама из «Спросите Эми» плюс отец-исповедник, в комплекте. Возможно, сегодня мне придется отрастить бороду и сменить имя на «Зигмунд». Фрейд, естественно.
Дженет поправляет ремень, как у Бэтмена, и пистолет на нем и садится на стул, который проигнорировал Джонз.
— Как тебе эти сережки? — спрашивает она.
А-а. Сегодня я опять Ральф Лорен.