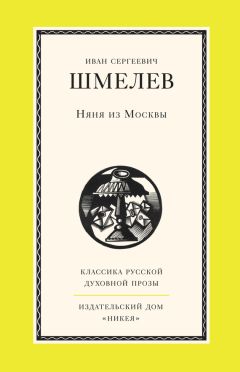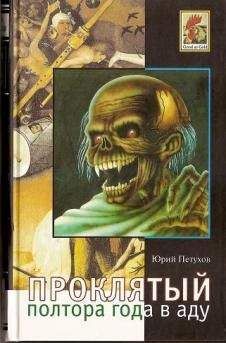— Ну да, ты ж им тетка, — она соглашается легко и скепсиса с недружелюбным взглядом не замечает, вместо этого хлопает меня по руке и втолковывает, как маленькому ребенку. — Ну ты же с Кириллом встречаешься, значит тетка! У вас с ним все серьезно, да? Ты с племянниками его согласилась сидеть, значит, серьезно! Поженитесь скоро, да? Слушай, — меня пихают, и я отодвигаюсь, поморщившись, — а где их родители? Правда, что мать у них пропала, а отец… — мамаша придвигается, наклоняется еще ближе и шепчет таинственным шепотом, округлив глаза, — а отец, говорят, террорист и бандит?
Я моргаю.
И еще раз.
И не знаю, расхохотаться, все ж послать — простите, деонтология и воспитание, — или еще похлопать глазками, переваривая информацию.
На сие бредни у меня нет адекватной реакции.
И ответа тоже нет.
Точнее есть, но хамить, наверное, все же не стоит. Лавров не оценит.
— Так чего с родителями? — мамаша склоняет голову.
И, пожалуй, я понимаю кого она мне напоминает.
Сорока.
Вот только сорока охотится за блестяшками, а эта за сплетнями. И на сорок злиться бесполезно, и объяснять что-то тоже. Не поймут, сороки глупы.
— Ничего, — я вежливо улыбаюсь, ибо меня отпускает, — а… прощу прощения, как вас зовут? Впрочем, думаю, можно закончить нашу увлекательную беседу без имен. Так вот, личную жизнь я ни с кем не обсуждаю, но так и быть сообщу вам, что родители Яны и Яна уехали по делам, они скоро вернутся, не переживайте. Остальное же, простите, не ваше дело.
Наверное, меня отпускает не до конца, и злость еще клокочет, вырывается, поскольку сорока смотрит все более расширяющими глазами, а мой голос пропитан злобной любезностью.
Все сплетничают, и я не буду бить себя в грудь и уверять, что никогда и ни за что не сплетничаю. Обсуждаю и кости перемываю, но не с посторонними людьми и далеко не все, а вот такие сплетни меня выбешивают, заводят с пол-оборота.
— Всего хорошего, — я киваю и встаю.
Вовремя встаю, ибо с детской площадки доносятся крики.
Сердитые.
Возмущенные.
И кричит яростно уже до боли знакомый голос:
— Сам ты сирота! Нас никто не бросал! Мама вернется! И папа у нас не бандит! Они нас не бросили!!! Дурак!
Ян бьет лопаткой по голове белобрысого парнишку, кидается с кулаками, и Яна его подбадривает, пытается добавить ведерком.
И к монстрам я срываюсь, замечая боковым зрением, что сорока тоже подрывается и всплескивает руками.
— Владик!!! Ваши дети чудовища! — рявкает мне на ходу. — Бандиты! Ты чего творишь, сволочь малолетняя?!
Она пытается схватить Яна, но я успеваю раньше.
— Руки убрали! — рявкаю, не узнавая себя.
И сорока отшатывается, заслоняет свое драгоценное чадо, которое вопит, высовывая голову:
— И никому вы не нужны! Сироты, сироты, сироты… Дядя вас в детдом отправит, бе-е-е! Вы ему жить мешаете!
— Влад! — мамаша отдергивает свое чадо, но без особого возмущения.
Возмущение ее целиком и полностью направлено на меня.
— Ты посмотри, что твои поганцы устроили! Безродительщина, беспредел! Да на вас в опеку заявить надо, строит тут из себя фифу, поглядите на нее! За детьми научись смотреть сначала!
— Даша, он первый начал! — Яна требовательно дергает меня за футболку.
— Что?! — сорока, отрываясь от осмотра ненаглядной кровиночки, взвивается. — Это мой Владик первый начал?! Да как ты смеешь, паршивка?! Да мой Владик никогда б первый не начал. Все, все видели, кто первый драться полез!
— Он сказал, что мы сироты и нас никто не любит, — Яна выпячивает нижнюю губу, а Ян начинает активнее вырываться и пыхтеть. — Даша, он говорит, что Кирилл нас едва терпит, и мы ему скоро совсем надоедим.
— Это правда! Мама, скажи, ты сама так говорила! — Владик обиженно кривится. — Вас родители бросили! Сироты! И дядя ваш от вас скоро откажется!
И Ян все же вырывается, выкручивается из моих рук и под оханье сороки опрокидывает Влада на землю.
— Не смей, не смей так говорить!!! — Ян беспорядочно молотит его, вцепляется мертвой хваткой. — Нас никто не бросит! Нас любят! Мы не сироты!
— Мама!!! — Влад визжит.
И расцепить этот клубок невозможно.
Мне расцарапывают руку и заезжают по ноге, когда я пытаюсь их разнять. Сорока мельтешит, причитает и скорее мешает, чем помогает.
Другие же дети с родителями смотрят, столпившись полукругом.
А Яна лезет, вопя, что надо помогать, и я уже готова заорать благим матом в лучших традициях Эля, когда рядом звенит сталью голос Лаврова:
— Разошлись все.
Ему удается отодрать Яна от противника за секунду, удержать брыкающее и орущее тело и скомандовать мне:
— Быстро домой.
С прибежавшей сорокой разговаривает Кирилл Александрович.
В коридоре, и от его ледяного вежливого тона хочется поежиться даже мне.
Но не сороке.
Она выступает, ругается.
И я закрываю дверь кухни, кидая строгий взгляд на Яна, который порывается спрыгнуть со стола и в коридор выбежать отстаивать правду.
— Он первый начал, — суслик бурчит, когда я прикладываю к его левому глазу замороженное мясо, и дергается с шипением. — Холодно.
— Потерпишь.
— Ты нам веришь? — он все-таки отводит мою руку и упрямо смотрит мне в глаза.
— Верю, — я вздыхаю и лед к начавшему заплывать глазу снова прикладываю, — но драка не лучший выход. Надо… уметь мирно урегулировать конфликт, и вообще на дураков внимание не обращают.
— Нет, — Яна несогласно фыркает и, пододвинув стул, забирается на стол, усаживаясь рядом, — мы что, должны были промолчать?!
Я прислушиваюсь к крикам сороки, и педагогические навыки — это не мое, потому что… суслики правы и на их месте я бы поступила точно также.
И мирное урегулирование конфликтов может идти в задницу.
— Нет, — признаю неохотно и лезу за ватными дисками и перекисью.
У Яна еще рассечена бровь и сбиты костяшки.
— То есть мы правы? — Яна настырничает.
— Правы, — я бормочу, заставляя суслика повернуться еще больше к свету и рассматривая его боевое ранение.
Зашивать, кажется, не надо, но Кирилл Александрович пусть лучше смотрит сам. Кто из нас специалист с дипломом?
— Тогда ты скажешь Кириллу, чтоб он не ругался? — они спрашивают почти хором.
И я замираю, скашиваю глаза, чтобы увидеть два напряженных взгляда.
Суслики — чужие дети, я не имею к ним никакого отношения и уж тем более мне не следует говорить что-то Красавчику об воспитании, вставать на их сторону, защищать.
Это не мое дело и меня не касается, как и тогда, в машине, но в серых глазах слишком много надежды и чего-то еще, отчего я не могу сказать им нет.
— Я ему скажу.
Обещаю со вздохом, и моему обещанию вторит уставший голос Кирилла Александровича за спиной:
— Что ты мне скажешь, Штерн?
Я оборачиваюсь, Лавров маячит на пороге кухни. И выглядит он вымотанным и хмурым. Трет подбородок и, окинув нас всех цепким взглядом, подходит, оттесняет меня, забирая из моих рук перекись.
— Что Влад первый начал, — я кошусь на сусликов, а те активно кивают, и Кирилл Александрович прикрикивает, чтоб башкой не мотали, мешая, — и у него кошмарная мамаша. Она… неприятная, просто противная. И суслики были правы, поэтому не надо их ругать и наказывать. И пороть, как просила сорока, тоже не смейте. Я… я вам не дам!
Изумления на квадратный метр слишком много. И я не знаю у кого его больше от моей запальчивости: у меня или Лаврова?
Он замирает с распакованным пластырем в руках, оглядывается на меня через плечо и усмехается:
— Знаешь, Дарья Владимировна, ты не перестаешь меня удивлять.
В его голосе калейдоскоп эмоций, и пока я пытаюсь их разобрать, Кирилл Александрович отворачивается и пластырь Яну наклеивает.
— Так, дебоширы, переодеваться шагом марш, — Лавров ссаживает сусликов на пол, дожидается, когда они скроются, и разворачивается ко мне.
Улыбка на его лице поистине дьявольская, и интересуется он на редкость вкрадчиво: