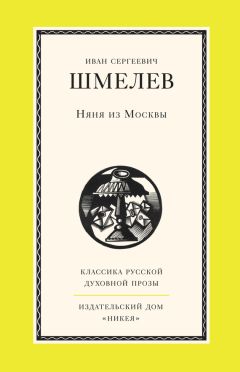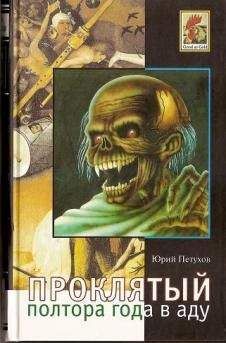— Мне не сметь, Дарья Владимировна? И детей не пороть? И ты не дашь, да?
— Н-не дам, — голос подводит, но отступать поздно.
И некуда.
Позади стол, а впереди Лавров, который неспеша приближается, ласково вопрошая:
— Ты совсем страх потеряла, Штерн?
— Угу, с недосыпа, — подтверждаю, не задумываясь и под его тяжелым взглядом прикусываю язык.
Страх, кажется, я правда потеряла, поскольку ответ мой больше тянет на язвительный.
Хотя нет, не тянет, он таким и является.
И на досуге можно подумать куда делся пиетет к Лаврову, вместе со здравым смыслом.
— Извиню, — Кирилл Александрович соглашается не менее язвительно и охотно, останавливается совсем близко, и приходится задрать голову, чтобы не уткнуться носом ему в грудь.
Оказывается, за полгода я так и не рассмотрела Красавчика. И шрам над губой слева я замечаю только сейчас, и возмутительно длинные ресницы я тоже не видела.
— Почему сорока? — спрашивает он почему-то тихо.
Неожиданно.
И я моргаю не менее растерянно, чем при общении с сорокой, и зависать, зачарована глядя в синеву глаз, перестаю.
— Чего?
— Ничего, — Кирилл Александрович усмехается, — чисто из интереса, Штерн, откуда привычка давать людям прозвища?
— С детства.
— Ну-ну.
Лавров хмыкает и, переставая сверлить меня взглядом, отходит к окну, чтобы распахнуть форточку и, подтянувшись на руках, сесть на подоконник.
Пачка сигарет извлекается из кармана, и щелкает колесо зажигалки.
— Я не собирался их наказывать, Дарья Владимировна, — бубнит неразборчиво.
И я сама делаю шаг к нему.
— Честно?
— Честно, — Лавров невесело улыбается. — Я считаю, что они правы.
Неожиданно.
— Чего смотришь, Штерн? — Кирилл Александрович хмыкает, дергает плечом, и дым на миг скрывает меня от цепкого внимательного взгляда. — Я хреновый воспитатель, дядя и нянька. Сама говорила.
— Я не так говорила, — мое возражение тонет под его хмыканьем, которое злит и придает смелости задать не дающий покоя вопрос. — Почему вам сусликов тогда оставили?
И где, правда, их родители?
— Штерн… — Кирилл Александрович тяжело вздыхает и любезно напоминает, выпуская очередное облако дыма, — тебе пора домой.
Глава 13
Есть дни, которые не задаются с самого утра.
С самого раннего утра, которое начинается в шесть и ознаменовывается поисками моих джинс.
Любимых.
С дранными коленками.
— Лёнь, ну я точно клала их на стул, — застегивая на ходу часы, я залетаю в гостиную, что с кухней соединена.
— Так куда тогда, по-твоему, они могли деться? — не отрываясь от планшета и попивая кофе, бормочет мой чуткий парень. — Ты ведь не думаешь, что их взял я, Дань.
— Не думаю, — я скриплю зубами, но смотреть на меня все равно не спешат. — Но где они тогда?
— Мне-то откуда знать, ты вообще уверена, что кинула их на стул? — Лёнька морщится. — Слушай, не морочь голову глупостями. Ты сама вечно свои вещи бросаешь где ни попадя, Зинаида Андреевна вечно жалуется. Кстати, может она их и прибрала.
На меня таки поднимают голову и смотрят почти с претензией.
Прекрасно.
Приехали.
Как я могла не сообразить?!
— Зинаида Андреевна, где мои джинсы? — мой вопрос не задается, а орется.
И на террасу с кадками и горшками цветов я врываюсь почти фурией, а Фрекен Бок местного пошива поднимает голову и опускает руку с пульверизатором.
— Дарья, крик не красит человека, — ее тонкие губы разъезжаются в сухой улыбке, а застывшие глаза строго смотрят на меня поверх очков. — Говори спокойно.
Конечно.
Главное — спокойствие, только спокойствие и еще раз спокойствие.
Нам, истеричкам, постоянно об этом надо мягко и с налетом укоризны напоминать. И да, я точно истеричка и неуравновешенная личность. За неделю жизни в этом доме я это осознала, поняла и приняла.
Действительно, кто я еще, если завожусь непонятно с чего, ору на пустом месте, требую какие-то глупости и не понимаю своего счастья от наличия в моей жизни Зинаиды Андреевны, которая всегда сохраняет нордическое спокойствие и разговаривает подчеркнуто вежливым менторским тоном.
— Зинаида Андреевна, вы мои джинсы не брали? — повторяю спокойно.
Как просили.
— Ту кошмарную половую тряпку, которую ты все еще не удосужилась выкинуть?
— Ее самую, — я улыбаюсь.
Мило, но, кажется, получается иезуитски.
В духе Лаврова.
— Я отдала их в химчистку, — невозмутимо сообщает Фрекен Бок и непробиваемым броненосцем плывет к папоротникам. — Ты ведь совершенно не умеешь носить вещи аккуратно, Дарья.
Су… суперская домработница.
Всем советую, адрес дам и объявления расклею в надежде, что такое сокровище кто-нибудь заберет.
— Лёнь, мы ж договаривались, что мои вещи она не трогает! — я влетаю обратно в гостиную, где Лёньчик уже отставляет пустую чашку.
Точнее демитассе, называть ее чашкой — нельзя, и уж тем более расстрельно обзывать демитассе кружкой.
Зинаида Андреевна чутко за этим следит, и поправлять меня терпеливо и хладнокровно она не устает.
— Дань, заканчивай, — Лёнька снисходительно усмехается и, чуть сдвигая узел галстука, подходит ко мне. — Ты чего как маленькая, а? Мои вещи не трогать, свое стираю сама, утюжу сама, прибираю сама, кружку помою сама, кровать заправлю сама. Сама-сама-сама. Радуйся. Многие мечтают перевалить домашнюю рутину на кого-то другого, а ты еще и возмущаешься.
Меня чмокают в щеку и уходят.
И, глядя перед собой в пустоту, я слушаю, как хлопает входная дверь.
Не с той ноги день начинается, видимо, не только у меня, поскольку Лавров вместо приветствия отвечает хмурым взглядом и заверением, что утро добрым не бывает.
И, подтверждая собственные слова, он не может застегнуть запонки.
— Помочь?
Вместо ответа Кирилл Александрович сверкает глазами, и я уже жалею, что предложила, когда он протягивает руку и запонки.
— Ненавижу этот официоз, — неохотно скрипит он и сверлит взглядом, пока я споро вдеваю, как кривится Лёнька, статусное явление.
На нем я, кстати, запонки застегивать и научилась.
И разбираться в них тоже, поэтому смело могу похвалить Красавчика за вкус и разборчивость. Запонки у него шикарные.
— А зачем вам сегодня официоз? — я отпускаю правую его руку и командую. — Вторую конечность.
— Я сегодня на конференции выступаю.
— Поздравляю, — закрутив вторую, я улыбаюсь.
И поспешно отступаю, поскольку с парфюмом некоторые, кажется, переборщили, и я его воспринимаю слишком остро, как-то неправильно.
— Спасибо, — Лавров скептически хмыкает, смотрит пристально.
Нервирует.
— Да всегда пожалуйста, — и я хмыкаю в ответ, и взгляд не выдержав отвожу первой. — Пойду… кофе сварю.
Кофе я варю по старинке в турке, настояв, что так вкусней, а Кирилл Александрович, насмешливо согласившись, ждет и курит, забираясь на подоконник и что-нибудь рассказывая.
Вот только не сегодня.
Сегодня эта почти двухнедельная почти традиция нарушается, когда, снимая турку первый раз, я слышу, как в коридоре тихо закрывается дверь.
Кирилл Александрович уходит по-английски, и от этого внезапно становится обидно.
И готовый кофе я выливаю в раковину.
Одной пить не хочется.
Суслики молчаливы.
Спокойны.
И послушны.
И я в третий раз, как заполошная мамаша, проверяю температуру и спрашиваю ничего ли у них не болит, не хотят ли они погулять или разнести квартиру, играя в войнушку или индейцев.
Сегодня я даже не против побыть вождем краснокожих, а потом получить очередную выволочку от Кирилла Александровича.
Вот только суслики не хотят.
Ни погрома, ни гуляний, ни-че-го.
И у них ничего не болит, и лбы они послушно подставляют и даже не фыркают, что есть градусники и примитивно мерить губами — это дилетантство.