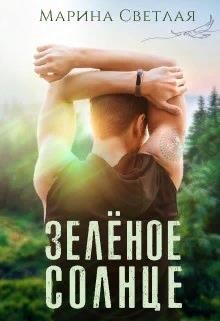гондон.
До тех пор, пока однажды этот гондон не явился к ним на порог в день, когда Назару исполнилось шестнадцать, и не сказал, что хочет общаться. Представился Иваном Анатольевичем, торжественно сообщил, что овдовел и более не в силах гасить душевные порывы, потому как госпожу Шамрай так и не позабыл, про отпрыска своего помнит и готов узаконить. И даже трепался, что якобы и алименты платить всегда был готов, но Лянка гордая, дескать, оказалась. Мать и сейчас была гордая. Выдала что-то насчет того, что сама ребенка поднимала, а спустя столько лет никакой Иван Анатольевич ни ей, ни сыну ее не нужен, а Назар был с ней в этом солидарен — кому нахрен сдался такой папаша, если с детства слышишь, что он «урод». Ну и выбросил его за шкирку из поместья. Только потом сообразил, как его это отцовское появление растревожило, но пытался справиться самостоятельно.
И вроде бы, вернулось все в прежнее русло. Успокоилось. Назар успокоился. Несколько недель папаша не показывался. А потом снова приехал. Растрепанный, помятый, с покрасневшими глазами и желанием что-то доказать. Бахнувший двести грамм для храбрости, что было отчетливо слышно по запаху, пытающийся поведать какую-то там свою историю, которую Назар и слушать не хотел. Впрочем, если бы и посчитал возможным — мать не давала, возмущаясь и требуя, чтобы «урод» убрался. Назару всегда было жалко маму, из-за себя, из-за нее, из-за неприкаянности, которая крылась в уголках ее глаз. Из-за того, что одиночество и обида ее испортили с годами. И если Иван Анатольевич и спустя шестнадцать лет заставляет ее плакать, то какого хрена он все еще уперто сидит в их кухне, отказываясь уходить.
В памяти отпечаталось, как схватил его за грудки, как тащил в коридор, а тот упирался и громко кричал, как выкинул на крыльцо, чтоб не смел больше здесь никому на глаза показываться. Глухой звук падения потом долго звучал в его ушах. И материн плач. То, как она раз за разом повторяла, что все ее беды от одного Ивана. Еще запомнилось, что вскоре дом наполнили какие-то люди. Врачи со скорой, милиция, взрослые дочки Ивана Анатольевича с визгливыми голосами, напирающие на Ляну. Все они наперебой галдели, а ему уши закрыть хотелось, чтобы не слышать всего, что говорят — о нем. Конечно, о нем. О ком же еще?
А ведь Назар так и не понял — живой батя или таки помер. Никто не сказал, а он спрашивать боялся.
Потом его увезли давать показания, он со всем соглашался, во всем признавался и все подписывал. Потому как справедливо же.
Если убил — то должен сидеть. Как же еще?
В итоге, словно ангел милосердия, появился Стах и забрал его из рудославской каталажки, вернув домой. Назар рыдал первый раз жизни, когда дядька в дороге еще, совершенно мимоходом, случайно оговорился, что Ивана Анатольевича он перевез в Кловск, в нейрохирургию, и тот уже вышел из комы. И что «эти склочные бабы» заявление заберут.
Эти склочные бабы — его родные сестры по отцу. Сводные. Как Ляна Стаху. Мысль эта удивила его тогда, даже поразила. Но плакал он не поэтому, а от облегчения, что тот человек остался жив. И правда. Никто же не говорил, что ему убийство инкриминируют, только нанесение телесных повреждений, опасных для жизни. Но это он далеко не сразу понял.
Еще какое-то время ушло на то, чтобы все утрясти. Девкам выплатить компенсацию, договориться в органах, чтобы дело вообще «потеряли», чтобы никакого пятна на Шамраях. О Митенькином будущем пеклись, не о его — нафиг такую славу среди людей. Но у Митеньки будущего уже почти не оставалось.
Назар еще пару месяцев не ходил в школу, не мог себя заставить, прогуливал, вместо уроков сбегал в лес и там шлялся дотемна — лишь бы не среди людей и не дома с матерью. Мать вообще видеть не мог — она все время плакала, и ему казалось, что она теперь уже его винит за все, что он натворил.
Экзамены Назар сдавал кое-как на старом багаже — голова-то работала у него всегда неплохо. Учителя пожалели — обошлось без трояков. А по окончании школы, когда все куда-то поступали и куда-то разъезжались — он остался. Митя погиб. Митя и тетя Ира.
Куда он, преданный, верный, почти боготворивший, мог ехать от едва не сошедшего с ума дядьки, жаждавшего мести, готового сжечь весь мир?
Остался. Конечно, остался. Здесь, с ним, во всем с ним. До конца с ним.
Даже тогда, когда на его глазах в янтарной канаве пристрелили ублюдков, подсадивших младшего Шамрая на наркоту.
Назару было семнадцать, его взяли с собой. Он — видел. Он — смотрел.
И Стах, стоя рядом и держа его за плечо, говорил: «Иногда приходится и так, Назар, иногда приходится и так».
Еще через год он ушел в армию, от которой отмазывать его никто не собирался, довольно, что отмазали от тюрьмы. А когда вернулся, оказалось, что самое честное и самое правильное, да и единственно возможное для него — работать на Стаха. Тот после дембеля ему предложил взять на себя охрану, Назар и согласился. Согласился. Тогда это была только охрана. Но он всегда знал, что однажды придется «и так».
Потому не давать повода себя посадить — в этом единственном он вряд ли сможет последовать совету Лукаша Ковальчука, лучшего друга детства и самого светлого человека, что он видел.
Они разошлись спустя еще час, пообедал Назар тоже в центре, в пиццерии в универмаге.
А после поехал домой. Спать. Чувствуя себя хотя бы немного выдохнувшим и унявшим разбушевавшихся бесов. Разговоры с Лукашем всегда были в чем-то сродни глотку свежего воздуха, когда ему и самому хотелось хотя бы немного поверить, что может быть и другая жизнь, пусть и не с ним.
Спалось дерьмово. Жара раскалила воздух и землю до невозможности, кондиционер включить сначала забыл, потом ленился. Потом снилась какая-то ерундень, из-за которой постоянно выныривал из сна, но до реальности не доплывал. Так, в спутанном, смешанном, перемешанном, душном состоянии и провалялся до звона будильника, оповещавшего, что пора идти в большой дом, сообщать дядьке об отсутствии каких-либо неожиданностей и ехать снова на