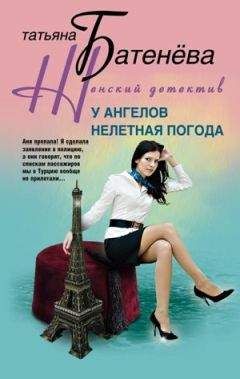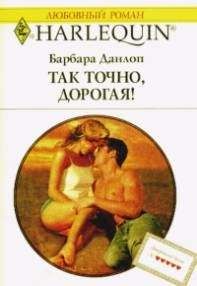мужскому подбородку, тронула шрам, — только тогда Макс перехватил её ладонь.
— Ромашка? Эй, ты чего?
Он выглядит обеспокоенным, отстранённо заметила Маргарета. Так странно…
Потом она моргнула, тени рассеялись, и она сообразила, что только что щупала лицо постороннего мужчины, — вместо того, чтобы пригрозить спустить его с лестницы, послать далеко-далеко в лес с его дурацкими идеями и заняться своими делами.
— С чего бы это, — она подёрнула плечами, будто ничего не случилось, и прочмавкала по развезённой у дальней стены грязи, чтобы влить в вивернову миску ярко-зелёной вонючей жижи.
Старичок с готовностью сунул морду в корыто и принялся чавкать и пускать носом слюнявые пузыри.
— Маргарета?..
— Отличный навес, — невпопад сказала Маргарета и грохнула ведром о борт переполненной бочки. — У тебя. Там. Под ним и кукуй.
— Ты чего, обиделась что ли?
Маргарета наморщила лоб и попыталась примерить на себя это слово. Выходило плохо, как будто там, где раньше могла бывать обида, теперь ничего не осталось.
— Поляну размыло, — сказал Макс, так и не дождавшись от неё ответа. — Грязюки по лодыжку. Рябине ещё ничего, а я вон…
Он уляпался не по лодыжку — по самое колено. Выливая воду из поилки и залезая по лестнице с ведром, Маргарета вяло думала о том, что ей велели организовать «жилые условия», и вряд ли неприятная женщина из центра сочла бы таковыми навес в дождливом лесу. С другой стороны, что она могла бы сделать Маргарете? Объявить выговор с занесением? Как будто Маргарете есть дело до выговоров. Оштрафовать? Она не была уверена даже, сколько именно ей обычно платят: деньги начислялись на книжку, было их унизительно мало, но и тратить их было почти некуда, и Маргарета не следила за балансом своих счетов.
Могут ли её уволить за то, что оставила под дождём народного героя? И станет ли он жаловаться? С другой стороны, это она его нашла, — кто знает, что бы с ним было, если бы Маргарета не сообщила вовремя в центр…
Пока она обдумывала всё это, Макс уже открыл дверь, зачем-то разулся на пороге, бесцеремонно залез в шкаф и вскрыл консерву. Маслянистый рыбный запах добрался до носа даже сквозь дождь.
— Эй! Ты что творишь?! Я же не…
— Ты слишком долго думала, — громко сказал Макс из станционной темноты и, судя по звуку, облизал ложку. — Надо думать быстрее. И вообще, тебе что, жалко?
— Жалко, — крикнула Маргарета и так заторопилась слезть, что чуть не грохнулась с лестницы. — Очень жалко! Поставь на место!
— Хорошо!
Ничего он не поставил, конечно. Когда Маргарета заскочила внутрь и стряхнула воду с плаща, Макс сидел за единственным столом, закинув ноги на сейф, и со вкусом хлебал бульончик прямо из консервной банки.
— А у тебя хлебушка нет? — спросил он, явно не испытывая никаких угрызений совести.
— Рукавом занюхни, — мрачно посоветовала Маргарета.
А сама принялась плескаться у рукомойника, и даже расчесала волосы гребнем, от чего они стали на вид ещё мокрее и печальнее.
— Так вот я подумал, — хлеб Макс нашёл сам и теперь собирал им лук со дна, — что жить в лесу — дурная идея. Рябина уже пободрее, крыло приличное, её можно будет перевести сюда. А я хоть буду в сортир ходить, а не до ветру, да?
Маргарета глянула на него с сомнением, села на сейф, скинув с него наглые мужские ноги. Может быть, они и не виделись три года с лишним; может быть, с тех пор воды утекло — целое солёное озеро. Но когда-то она любила этого человека, любила и знала, что за грубостями он всегда прячет волнение.
— Макс, — она вздохнула. — Что случилось?
Его лицо было совсем близко.
— Это ты мне скажи. Что случилось, Ромашка? Что случилось, что ты трогаешь меня с пустыми глазами?
Она отвела взгляд. Тени Маргарет скользили по комнате; каждое новое танцевальное па — удар дождевой капли об обшивку станции. Они кружили, кружили, и небо волновалось, и даже сквозь мутное стекло было видно, как клубы туч складываются в бездонную спираль с чёрным нутром.
— Я хочу помочь, Ромашка. Я могу помочь. Что случилось с тобой? Что случилось с нами?
Что случилось, что случилось… много всего случилось — много такого, о чём ты не знаешь, Максимилиан Серра, потому что откуда бы тебе знать?
Маргарета хорошо помнила то лето. Оно было выжжено в памяти чем-то калёным, ядовитым, и иногда возвращалось в той неподвижной темноте, что накрывает за несколько секунд до того, как придёт чёрный сон без видений и кошмаров.
О гибели отца Маргарета узнала из газеты. Неделю весь столп плакал о трагедии в Боргате, и вот теперь передовицы клеймили виноватого: собаке — собачья смерть. Заголовки обличали предателя, статьи безжалостно выворачивали грязное бельё, и каждая строчка кричала: Бевилаква.
Бевилаква. Бевилаква. Бевилаква.
Это не так чтобы уникальная фамилия, но и не слишком распространённая. За завтраком на Маргарету смотрели. За столом вдруг — зона отчуждения. Шепотки, робкие вопросы.
— Папа умер, — шёпотом повторяла тогда Маргарета. — Папа умер.
Предатель, погубивший тысячи жизней. На базу в Монта-Чентанни уже приходили похоронки, на построении смены объявляли минуты молчания, здесь и там мелькали чёрные ленты. Теперь всем этим ослеплённым горем и несправедливостью людям было, кого ненавидеть.
Потом, много позже, в глухой тишине станции Маргарета подумает: это тоже было что-то про политику и про то, о чём должны думать люди после такого поражения, — не о том, как сплоховало командование, и не о том, как силён оказался враг, а о силе духа и патриотизме. Тогда Маргарета была оглушена и разбита.
Её затаскали на допросы, формальные и неформальные, один другого отвратительнее. Её спрашивали об одном и том же сто тысяч раз. Перетрясли все вещи в поисках несуществующих записей чего-то секретного, хотя что секретного, во имя Господа, может знать девчонка, которая водит драконов снабжения и не имеет даже мелкого армейского чина? Все её книги разобрали на листы, письма — перечитали с фонариком, личный дневник — откопировали и отослали куда-то в центр. Зачитывали выдержки и спрашивали, что значит то, а что значит это. Обвиняли в том, что цензору пришлось марать матершину. Тыкали носом в пошлости, винили