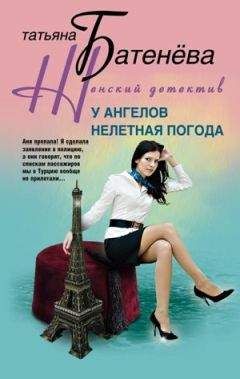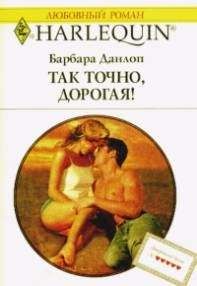— Давай дружить, да?
Рябина выдохнула в ладонь теплом, а потом завозилась и ушла глубже в свой кокон.
— На, — Макс пихнул помидор в руки Маргарете. — Тебя она любит.
Не то чтобы Рябина любила Маргарету, — но на её призыв она отреагировала куда благосклоннее. Помидорный сок брызнул в руку, мохнатая морда смешно чавкала и облизывала нос длинным языком.
— Макс, она боится тебя, — виновато сказала Маргарета. — Ей… ей не хочется летать с тобой. Она как будто думает, что это не она, а… в общем, что это ты.
— Что — я?
— Упал.
— Я? Я, по-твоему, крыльями махать перестал?
— Ей кажется как-то так. Но она же всё-таки животное.
Макс вздохнул и украдкой погладил мягкое крыло. Он казался озадаченным и сосредоточенным, как будто столкнулся с какой-то задачей, которую ему сложно решить.
— Давай вернёмся пешком? Я доведу Рябину, а ты старичка. Ладно?
Он кивнул и почесал виверна под подбородком.
Если бы Маргарету спросили, она не смогла бы сказать, почему всю дорогу к станции она была так напряжена, и почему отправила Рябину вперёд устраиваться вместо того, чтобы полетать немного, — тоже. Как будто бы что-то внутри Маргареты ждало плохого и готовилось к нему.
И оно случилось, это плохое. Тучи медленно расползались, открывая спрятанную за ними нагую синеву, Маргарета почти расслабилась, но у самого выхода из леса Макс вдруг дёрнулся и завалился на бок.
Старичок взревел и вошёл в штопор. Маргарета едва успела силой вломиться в сознание зверя, — и чуть не рухнула сама.
Страх залил её ледяной волной, штормовой, бушующей и сносящей всё на своём пути. Упасть и разбиться оказалось вдруг легко, много легче, чем держаться; крылья — будто бетонные плиты; земля — милостиво распахнутая умиральная яма, в которой будет наконец тихо.
Мышцы выли от натуги, будто Маргарета не правила зверем, а своими руками двигала его тушу. Посадка вышла жёсткой, и удар об площадку неожиданно отрезвил: виверн нахохлился, подскочил и юркнул под навес.
Маргарета ошалело помотала головой, опёрлась о ствол дрожащей рукой. Макс лежал под деревом ничком.
Он был очень бледный, так, что видно даже со спины. Маргарета рухнула рядом с ним, нащупала на шее вену, но не смогла понять, свой пульс слышит или его; опустила лицо, задержала дыхание: дышит? Он ведь дышит?
Макс судорожно дёрнулся и перекатился на спину. Глаза у него были распахнуты и залиты чернотой.
— Макс! Макс! Да что ж ты…
Грудь дёрнулась — он тяжело, рвано вдохнул. Чернота побледнела, Макс моргнул — и посмотрел на Маргарету пьяно, осоловело.
Сел. Пошевелил руками, как будто пытался вспомнить, как они работают. Потёр лоб.
— Напекло, что ли? — с сомнением спросил он.
Они одновременно посмотрели наверх. Небо посветлело, синева в обрывках туч казалась слепящей, но солнца не было видно, и гадкая морось всё ещё слепо сыпалась из облаков.
— Макс, — Маргарета подёргала его за рукав. — Глаза опять были чёрные. Это не у Рябины, это у тебя! Макс, тебе нельзя к зверям. Тебе нельзя летать.
Он дёрнул плечами и отвернулся.
— Это серьёзно. А если бы ты был в воздухе? Ты бы упал ещё раз! Это же не шутки, ты же… ты покалечиться так можешь, понимаешь? Верный способ умереть!
— Ерунда.
— Макс, но…
Он вдруг вскинулся и бросил зло:
— Со мной всё в порядке, ясно?
Она давно не видела его таким. Может быть, никогда не видела.
— Да, — медленно сказала Маргарета. — Ты в порядке. Я поняла.
Если на первый взгляд станция выглядела сущим бытовым кошмаром, то примерно на третий, трезвый и солнечно-утренний, оказалось: на деле это вполне обжитая, почти уютная, хоть и весьма несвежая консервная банка.
У Макса всегда была удивительная волшебная сила, за которого его уважали и тихо ненавидели в любой казарме: если уж он решил проснуться с утра пораньше, он умел пару раз махнуть ногами, с хрустом размять шею и стать вдруг таким бодрым, что в него хотелось стрелять. Вот и сегодня, пока Маргарета фырчала и сонно плескалась над умывальником, Макс уже отжался на кулаках с десяток раз и развил бурную деятельность.
— Ты кашу будешь?
— Какую, — Маргарета вынырнула из полотенца, вид у неё был очаровательно всклокоченный, — кашу?
— Молочную!
Она нахмурилась, перекинула полотенце через плечо и с сомнением куснула губу:
— У меня есть молоко?
— Сухое, — жизнерадостно подтвердил Макс. — Оно входит в пайки номер четыре, а у тебя их тут целая коробка стоит потрошёных!
— Фу, — скривилась девушка.
Но Макс был непоколебим в своём оптимизме:
— Ладно, я на тебя тоже сделаю.
Судя по разобранным пайкам, Маргарета питала слабость к консервированному горошку: он полагался на обед, и на полную укладку в двенадцать пайков горошка не осталось ни одной баночки. Зато и сухое молоко, и галеты оставались нетронутыми.
Макс был не так чтобы склонен перебирать харчами. Но в полях, где не было кухни и когда выдавалось время, приучился собирать из частей пайков что-нибудь неожиданное. В конце концов, типов пайков всего-то пять, и первый из них до фронта никогда не доезжал, а жрать одно и то же неделями надоедает даже вивернам.
Поэтому сейчас он, немелодично насвистывая, колдунствовал над крошечной переносной плиточкой: развёл молоко, плеснул в него промытый рис, щедро закинул сразу четыре кубика сахара, щепотку соли, половину пакетика какао…
Максу нравилось готовить. И пробовать вот так, с кончика ложки, обжигающе-горячее адское варево — тоже. Солнце заглянуло на станцию длинными жёлтыми квадратами, где-то надрывно жужжала муха, Маргарета сердито ковырялась в своих журналах, пыхтя, как оскорблённый ёж, а Макс разделил клейкую кашу пополам, плюхнул по мискам, поставил на огонь чайник, — разве же не хорошо?
— Приятного аппетита, — объявил он и толкнул кашу к Маргарете.
Девушка смотрела на неё кисло. Понять её было можно: блюдо вышло не так чтобы особенно эстетичным. Но кого в каше волнует эстетика, её же не для красоты готовят, а для пуза!
Макс воткнул в кашу ложку. Она чуть покосилась, но осталась стоять черенком вверх. Свою порцию он размешал с силой, подул, а потом удовлетворённо запихал молочно-рисовый комок в рот и щедро залил чаем.
— Это очень полезно, — сообщил он. — В молоке витамины и микроэлементы