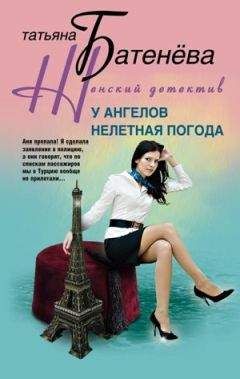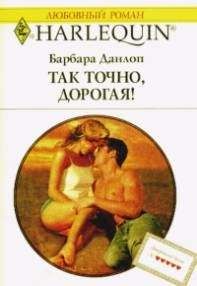жизнь самую капельку лучше.
За это, наверное, она и полюбила его когда-то.
Маргарета служила в Монта-Чентанни с самого начала войны. Тогда в наездники гребли всех без разбору: мужчин всё больше в дивизионы, женщин — как повезёт. Маргарета тоже пробовалась, но за весь месяц учений она, как ни старалась, так и не смогла научиться попадать в мишень хотя бы два раза из трёх, пусть даже и в самый край. К военной службе её признали непригодной, врач нехотя написал в личном деле «тремор неясного происхождения», и Маргарета отправилась в Монта-Чентанни, водить драконов.
Это была не такая плохая жизнь. В ней было небо, много, много неба, и это искупало почти всё из того, чего в жизни теперь не было. Маргарета была нелюдимая, мрачноватая девчонка, не слишком вписалась в команду, проводила выходные за книжкой или литературной газетой…
А потом появился Макс. Она ничего такого не искала, ни к чему не стремилась, и все мужчины до этого отступали, встретив недружелюбный взгляд исподлобья. Макс вовсе как будто не заметил никакого сопротивления.
В общем, Макс просто случился.
Он был большой, громкий, весёлый. Рассказывал забавные байки, таскал на какие-то сходки, вёл долгие, душевные разговоры. С ним хорошо было болтать, и молчать тоже хорошо, и всё остальное… ну, всё остальное тоже.
Как пустая интрижка выросла во что-то большее? Этого Маргарета не знала, но как-то ведь получилось. Макс занял собой всё пространство, поселился в сердце, пробрался под кожу. Он сказал ей:
— Я люблю тебя.
Серьёзно сказал, глядя в глаза, без тени улыбки. Не в постели и не перед вылетом, из которого можно не вернуться. Просто так.
Сказал — и она поверила.
— Я люблю тебя, — сказала Маргарета.
Потом она писала эти слова в письмах, несколько десятков раз. И почти каждую ночь повторяла в молитве, когда просила Господа сохранить его и помочь ему вернуться.
А затем, в лазарете…
Там она поняла, что ничего не вернётся. Даже если Макс и вправду приедет, — хотя она будет дурочкой, если станет на это надеяться, — ничего нельзя уже вернуть. Они стали двумя чужаками, у каждого за спиной свои тени, и он герой, а она…
Ничего не вернётся. Никогда ничего не возвращается. Мы всегда уезжаем навсегда, не так ли?
А теперь он здесь. Нелепое, странное совпадение. Она могла бы работать — на любой другой из сотен разбросанных по столпу станций; он мог бы упасть — в любом другом лесу.
Но он здесь. Что это, если не господне чудо? Он другой, конечно, и теней за ним… достаточно. И вместе с тем он всё тот же болезненно знакомый Макс, которого ей нравилось раньше доводить до бешенства, потому что тогда он так вжимал её в стену, что оставалось только сделать неприступное лицо и растечься розовой лужицей.
Вот и сейчас он…
Скрипнул кран, и град в душе сменился одинокими каплями. Кажется, Макс отфыркивался. Шуршал чем-то, пару раз треснулся, — Маргарета могла сказать даже, где именно, потому что сама не сразу привыкла к непонятному выступу в стене и билась об него бесчисленное количество раз.
Макс не гремел, но все связанные им звуки казались оглушительными. Маргарета привыкла быть на станции одна. Она знала, как поют здешние птицы, как шумит лес после дождя, как топочут под навесом ежи и как стрекочут кузнечики. А Макс был здесь чужой, пришлый, и всё остальное вдруг стало для него фоном.
Маргарета зажмурилась на мгновение, а потом юркнула в темноту станции. Бросила на отмытый пол одеяла, торопливо натянула лёгкие штаны и свежую майку. Нырнула в постель, затаила дыхание.
И почти уснула в предвкушающем, тёплом ожидании, — но всё-таки ощутила, как Макс улёгся рядом и легонько чмокнул в плечо.
— Спишь? — шёпотом спросил он.
Её отчего-то бросило в жар.
— Поспишь с тобой, — пробурчала Маргарета. — Топочешь, как дракон.
— Драконы не топочут.
— Ещё как топочут. Когда падают!
— Это по-другому называется.
— Тьфу ты, он ещё и зануда…
Макс фыркнул, обхватил её руками и как-то очень ловко развернул к себе лицом. Потёрся кончиком носа о её нос. Чужие мокрые волосы лезли в лицо и щекотались.
Маргарета вздохнула поглубже, собираясь найти его губы. А потом стушевалась, спряталась у него на груди.
Макс гладил её по волосам, по спине — просто так, тепло и мягко. По станции плыл терпкий дым от жжёных трав, по полу немного тянуло вечерней прохладой. Лежать было хорошо, и почему-то снова хотелось плакать.
— Глупо всё так… — пробормотала Маргарета, ничего толком не имея в виду.
— Не высшая математика.
— Не математика…
Её отец был математиком.
Там, на крыше, было хорошо. Очень остро, очень жарко, очень не по-настоящему, как будто подглядел за какими-то другими людьми, и люди эти живут в мыльном пузыре, в абсолютной пустоте, и у них в жизни и нет ничего, кроме этой прогретой крыши, и плывующих по синему небу видений облаков, и друг друга. Горькая, горькая судьба — быть пленником такого сна; но смотреть его — чистый, отравляющий кровь, пьянящий сильнее любого хмеля яд. В голову било чем-то искристым и невероятным, тени растворились на солнце, и глупое раздражение внутри перекипело в задиристость и желание показать обидчику язык.
Теперь тени вернулись. Они сидели рядком на койке, пересекаясь и накладываясь друг на друга, и смотрели на Маргарету с укоризной. Спать пора, негодовали тени. А если не спать, то выйти на улицу, чтобы сидеть под навесом, глядеть в небо и смолить одну за другой.
Маргарета упрямо стиснула зубы, выдохнула. Примерещившийся запах курева показался ей тошнотворным.
Потом она потянулась к Максу губами.
Они целовались глубоко, с чувством, долго и мягко. Маргарета подползла повыше, вцепилась пальцами в угол подушки, Макс привстал на локтях. Сталкивались носы, она щекотала ресницами его щёку, и от этого по телу почему-то пробегала дрожь. Шрам ещё этого его через бровь, вот ведь щегол! Мог ведь и не заводить такого шрама, чтобы не бить девичьи сердца!
Нет-нет, не маргаретино, конечно. Её-то сердце — в стальной панцирь заковано, в волшебном сундуке спрятано. Да и есть ли оно вообще, это сердце, или вытекло чёрной смолой давным давно, ссохлось да рассыпалось в труху?
Дыхание сбилось. Маргарета зажмурилась, хлюпнула носом и поцеловала глубже, требовательнее. Её качало, как невидимым течением в ласковых водах летнего пруда.
Когда он прервал поцелуй, она обиженно распахнула