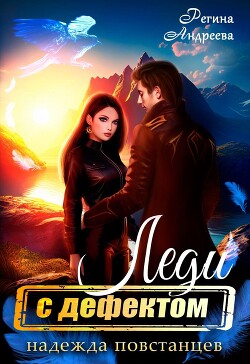Статью, как важно и позже сказал Любош.
— К чёрту и продажи, и рубрику, но ты, Квета… ты ведь не можешь вот так, — он обводит рукой кабинет, — ты всегда жила путешествиями, новые люди, места, страны… Да, я злился, что ты месяцами пропадаешь черт знает где, переживал за тебя, но принимал и отпускал, потому что это твоё, Квета. И да… я всё так же продолжаю считать, что тебе стоит ещё подумать и не быть такой категоричной. Тогда, в январе, может ты и была права, что нужна здесь, но сейчас…
— Сейчас тоже, — я отзываюсь эхом.
Закрываю глаза, потому что даже боковым зрением видеть лучшего друга невыносимо.
Не хочу.
И слышать тоже не хочу.
— Нет, — он возражает запальчиво, вскакивает и расхаживает, — нет, ты не должна приносить себя в жертву не пойми кому и не пойми во имя чего! И я не могу… слышишь?! Я не могу смотреть, как ты гаснешь. Ты убиваешь сама себя, Квета! Ты тратишь время на тех, кто это не ценит. Они оба не ценят и никогда не оценят. И твой чёртов русский… ему ведь плевать, Квета! Ты носишься с ним, ездишь постоянно, ты разрываешься между Прагой, Кутна-Горой и…
— Хватит! — я всё ж не выдерживаю.
Обрываю его резко.
И тоже вскакиваю, чтобы на равных и взглядом прожечь, передать всё, что я думаю о нём и его словах.
Выговариваю то, что рвётся наружу и что не получается спрятать за смехом:
— Я никуда не уеду, Любош. Они могут не ценить, прогонять и плевать, но они самые близкие мне люди, и я буду с ними, а не на другом конце света. Я не смогу там, Любош, и написать ничего не смогу. Понимаешь?
Мой вопрос тонет в очередной тишине.
Становится, пожалуй, риторическим, поскольку Любош отвечать не спешит. Он успокаивается, и широкая грудная клетка вздымается всё реже.
— Ты похожа на рыбу, что бьётся об лёд, Крайнова… — он усмехается горько, приближается, чтобы подхватить пиджак с жилетом.
И уходит тихо.
Закрывает дверь, а я опускаюсь обратно в кресло, забираюсь с ногами и, вытащив из верхнего ящика сигареты с зажигалкой, отворачиваюсь к окну.
Кривлюсь.
И стараюсь не думать, что несгибаемая пани Власта была бы против, выдрала бы ремнём, забыв о сдержанности, и отчитала бы меня за подобные дела, ибо женщины не курят.
Отвратная привычка.
Даже хуже, чем обкусанные ногти и нежная любовь к рогаткам.
Вот только пани Власта далеко, поэтому курить можно.
Можно рассматривать сквозь дым уже вечернюю Прагу, разгонять мысли, как этот самый дым с запахом полыни, рукой, сглатывать горечь.
Дышать.
И не повторять про себя слова лучшего друга, потому что впереди звонок лучшей подруге, которой я должна буду убедительно сказать, что всё хорошо…
[1] Гачек (чеш. háček «крючок») — диакритический знак, проставляемый в латинице над некоторыми буквами для передачи шипящих и мягких звуков. Чарка — диакритические знак, для передачи долготы гласных.
[2] Генрих Бловиц (1825–1902) — французский и чешский журналист, пионер жанра интервью.
Глава 3
Квета
Двери, ведущие на балкон, распахнуты.
И полупрозрачный тюль задувается в гостиную, взлетает к потолку, пляшет с весенним ветром, что пропах тонким ароматом магнолии и свежей выпечки. И он, ветер, перебирает страницы, забытого на столике, журнала.
Приносит с улицы голоса людей.
Оставляет тихий, почти призрачный перестук татр.
И я останавливаюсь на предпоследней ступени лестницы, перехватываю удобней лодочки, которые удерживаю одной рукой, зажимаю вместе с подобранным подолом юбки. Пальцами же второй руки отбиваю дробь по нагретым солнцем перилам и вопрос свой повторяю:
— В этом доме линейка есть или нет?
Жду.
Впустую.
И вздыхаю тяжело, чтобы пышный подол, на пошив которого, кажется, потратили слишком много атласа, подобрать ещё выше, перекинуть через запястье.
Спуститься и Фанчи отыскать.
Точнее пойти на дурманящий запах кофе и корицы, которую на завиванцы Фанчи никогда не жалеет. Сыплет так, что корица ассоциируется именно с ней, напоминает всегда о доме и детстве, в котором запрещалось бегать на кухню и таскать из плетенной корзинки, накрытой льняным с причудливой вышивкой полотенцем, манящие булочки.
Вот только я всё равно бегала.
Таскала.
Забирала всегда стоящий рядом стакан молока, поскольку, если пани Власта выговаривала за перебитый аппетит и несоответствие приличиям, то Фанчи причитала, что негоже ребенку питаться всухомятку.
Лучше — раз исправить и привить хорошие манеры неразумному дитяти не получается — с молоком.
Что и теперь подаётся мне уже по привычке.
Традиции.
Одной из многих в нашем доме и одной из немногих, что я люблю и соблюдаю, поэтому стакан молока, стоящий на бамбуковом столике рядом с корзиной, вызывает улыбку. Отвлекает на миг от важного вопроса, как и выписывающий вокруг меня пируэты тюль, но… выскальзывающие из пальцев туфли заставляют опомниться.
Выйти на балкон и, обогнув бамбуковое же кресло у столика, встать перед Фанчи и в третий раз с патетикой поинтересоваться о линейке, что нужна мне очень-очень.
И крайне срочно.
— Зачем? — Фанчи интересуется насмешливо.
Отставляет чашку, на дне которой застывает черная и густая гуща, что скоро растечётся по костяному фарфору блюдца, оставит замысловатые узоры на стенках, а Фанчи склонит голову набок, прищурит темно-карие глаза, и увидит что-то большее, чем просто кляксы, кои всегда видела я.
И на кои так ругалась пани Власта: помощницы по хозяйству в приличном доме на кофейной гуще не гадают.
— Нужно измерить высоту каблука, — я сообщаю важно, помахиваю для наглядности туфлями, растолковываю, — «Ястребиный коготь, соколиный глаз» в прошлый раз объявила, что больше десяти сантиметров — это уже моветон для Black Tie[1].
— Поэтому ты решила подстраховаться линейкой?
— Мне нужны доказательства, что тут ровно десять, — нюдовую замшевую пару я гордо водружаю на стол, усаживаюсь во второе кресло и, перегибаясь через ручку, сообщаю по секрету, — и я пообещала пани Богдаловой, что в следующий раз принесу с собой линейку.
— На званный вечер? — Фанчи охает.
Хмурится неодобрительно.
И чёрные линии бровей изламываются, сходятся к переносице.
— Не совсем, — я отвечаю с долей сожаления, — сегодня презентация новой коллекции «Сорха-и-Веласко». Я там буду по работе, но, думаю, пару минут для занимательной беседы со стариной приятельницей пани Власты смогу найти.
— Кветослава…
Вот теперь на лице Фанчи чистый ужас, что даже затмевает обычный укор на моё «пани Власта» вместо «бабушка», и сохранять дальше серьезное выражение лица не получается, я хохочу, глядя на неё.
И свёрнутой газетой по макушке получаю.
— Ты не исправима, — Фанчи укоризненно качает головой.
А я согласно киваю, подцепляю одну из булочек, выуживаю ее из корзинки и, подставляя лицо палящему вечернему солнцу, ем.
Тянусь за молоком, но получаю по руке всё той же газетой:
— Где ты видела, чтобы леди хомячили в вечерних нарядах? И положи мой кулинарный шедевр на место!
— Во-первых, я не леди… — я опасливо отодвигаюсь с кулинарным шедевром, пока не отобрали, смотрю глазами Кота из «Шрека» и бубню с набитым ртом, доказывая, что да, не леди и вообще человек некультурный, — во-вторых, стыдно отбирать у убогих первую и, заметь, последнюю за день еду, а в-третьих, ты мне поможешь с укладкой?
Опасный и по-настоящему важный вопрос я таки озвучиваю, превосхожу по милоте Кота, давлю на жалость, совесть, сострадание, гуманность и любовь, которые у Фанчи точно есть.
Она не может не любить меня.
Даже, если месяц со мной не разговаривала из-за обрезанных волос, расценив сие действие как личное оскорбление.
— Ты сегодня без Кобо? — Фанчи злорадствует.
Потому что вопли одного из лучших стилистов и моего друга по моём возвращении из России, осенью, она слышала хорошо, как и всё Старе Мнесто.