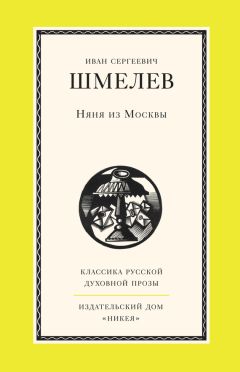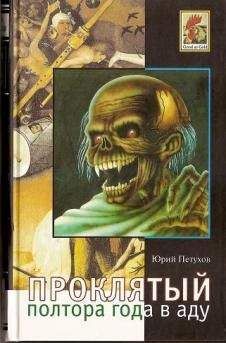— Я не коза, — я шмыгаю носом.
И Вано только вздыхает.
Возвращает в мой персональный ад, садится рядом и, закинув руку мне на плечо, бодро рассказывает про Форментера.
Этнологический музей, куда затащила его мама, про мораторий на аэропорт и высотки для сохранения экологии, что и правда сохранилась и более чистых белоснежных пляжей, переходящих в лазурное море, Вано нигде не видел.
— Там рай и край света, Даха, — он мечтательно улыбается.
Травит байки, коих у него, как у барона Мюнхгаузена, превеликое множество и встает, не отпуская, вместе со мной, когда появляется мама с па.
Квета.
Бесцветная, пугающая своей меловой бледностью, но улыбающаяся. Она радостно приветствует Вано, восклицает по поводу Форментера, требует подробности.
Держится.
И часы отсчитывают пол-одиннадцатого, когда двери открываются и я вижу Иван Саныча.
Кирилла.
Синие глаза сразу находят меня, и мне становится безразлично, что подумает мама, папа, Ветка и весь остальной мир вместе взятый.
Я с ними объясняюсь потом, выслушаю подробности и узнаю прогнозы.
Сейчас же я медленно подхожу к Лаврову, замираю в шаге от него, и мы рассматриваем друг друга невозможно долго.
По-новому.
Изучаем.
И в его руках я наконец согреваюсь, могу быть слабой и улыбнуться сквозь слезы, услышав легкий шепот:
— Я же обещал, лагиза…
Глава 35
Мама, па, Димка.
От них я знаю тысячу и одну сказку о пациентах, о тяжелых случаях, о смешных ситуациях. О многом, но не о дежурствах.
Почему за столько лет никто из них мне рассказал, как это бывает… тяжело?
Невыносимо.
— …ты никогда не упоминал, какие они… пациенты, — я выдыхаю с отвращением и от переполняющей ярости жмурюсь, — и мама с па тоже. Вы молчали, а я думала, что кинутый стул — это апогей, но словами кидать можно гораздо больней. Прицельней…
И бешенство от этого меня ослепляет.
Или солнце.
Оно, августовское и дополуденное, сверкает на ярко-синем полотне неба невыносимо ярко, пригревает. И во все еще неснятом халате жарко и на подоконнике одного из многих больничных аппендиксов сидеть неудобно, но… кнопок много и для телодвижений еще нужно найти силы.
— …должны, должны, должны. Кто и что? Почему нас учат разговаривать с ними, а их нет? Почему им можно сказать все, что угодно? И главное, знаешь, они уверены в этом своем праве говорить абсолютно всё, они уверены, что умнее, что мы тупы и работать не хотим, — я смеюсь.
Зло.
Сжимаю телефон до побелевших пальцев.
И шелест кленов за открытом окном… утешает, успокаивает, давая перевести дыхание, а ветер с запахом почему-то луговых трав и леса холодит горящие щеки.
— … я никогда не думала, что может быть так…
Мерзко.
И противно.
Второе дежурство выпало на вторник, и из врачей была Лилит.
Не дающая спуска, железная и невыносимо строгая Лилит.
Лилиана Арсентьевна, что в одиннадцать вечера заглянула в сестринскую, где я учила тесты к предстоящему зачету по практике, и позвала ужинать.
Меня и Татьяну Сергеевну, которая на посту заполняла журнал и шепотом подтвердила, что все спокойно.
Все спят.
Тишина.
Пустой длинный коридор, вереницы окон — справа, двери — слева. За окнами непроглядная и вязкая августовская ночь.
Черная.
И белая лампа на посту ее едва рассеивает.
Густятся тени под потолком, навевая ощущение таинства, чего-то запредельного и сакрального. Ночь меняет многое, и больницу стороной не обходит, искажает время и восприятие.
Вселяет мысли.
И в череде окон мое отражение скользило и слепило белым пятном, призраком, что едва слышно шептал всплывшие в памяти стихи:
— Справа раскинулись пустыри, с древней, как мир, полоской зари[1]…
До зари еще далеко, и обеденный зал с перевернутыми на столах стульями показался ирреальным, фантасмагоричным.
Мрачным, и желтый неровный свет из кухни лишь заострил это, высветил плитку с черными ромбами, на которые по детской привычке я не наступаю.
Лава, обожжешься, проиграешь.
— Слева, как виселицы, фонари. Раз, два, три…
Чудно.
И, пробираясь между столами, я не могла вспомнить, когда это учила.
Откуда знаю?
— Мы с Колей на выходных в лес ездили, за опятами… — Татьяна Сергеевна рассказывала живо и контейнеры из холодильника проворно доставала. — Я ему говорю: «Коль, какие опята в начале августа? Порядочные люди за ними по осени ходят!», а он уперся и все: «Ночью морозило, они пошли». И представляет, оказался прав! Опята…
Она засмеялась, и от ее негромкого грудного смеха повеяло теплом и уютом.
Заразительностью.
И на лице Лилит я первый раз увидела улыбку, пусть и тонкую, едва заметную.
— Собрали, и я сразу побежала с картошкой жарить, как еще бабушка учила, — Татьяна Сергеевна широко улыбнулась, включила микроволновку.
Напомнила красавицу с полотен Кустодиева.
- Лилиана Арсентьевна, угощайтесь, что вы опять одни свои салаты безвкусные едите, а?! — она укоряюще всплеснула руками и тарелки достала три. — Ешьте, и я даже слышать не хочу никаких протестов. Слышишь, спирохета бледная? Ты когда последний раз ела вообще?!
Руки она уперла в боки, прищурилась недобро, смотря на меня, ибо спирохета бледная — это я.
И последний раз я ела утром, когда Кирилл перехватил меня у входа в больницу и ультимативно предложил выбирать между столовой и парентеральным питанием.
Или зондом.
Выбрать, невольно вспомнив как ставят зонд, я решила столовую и… суп. Гречку с котлетой, которые встали комом и глотаться отказывались, но отделаться от Лаврова невозможно и есть пришлось всё.
Обещать клятвенно пообедать, но… Кенгуру умеет отвлекать.
Загружать делами.
И к семи вечера мне хотелось только посидеть и помолчать. Никого не видеть и слово «манипуляция» никогда больше не слышать.
— Даша, поешь, — Лилиана Арсентьевна приказала тихо, но весомо.
И тарелку с дымящейся картошкой и умопомрачительным запахом, от которого свело желудок, я к себе послушно придвинула, взяла протянутую вилку.
— И возьми за правило, что есть надо при любых обстоятельствах, — Лилит выговорила строго, почти сердито. — Через силу и все нежелания.
— Правильно, а то свалишься в голодный обморок, перепугаешь нам всех наших божьих одуванчиков, — Татьяна Сергеевна добродушно улыбнулась, подмигнула задорно. — Тем более все свежее, домашнее.
Вкусное.
И глотать под одобрительным взглядом Татьяны Сергеевны получалось нетерпеливо, почти не жуя, обжигаясь и тихо шипя.
— Я поговорила с Юлией Павловной, понедельник за прогул она тебе засчитывать не будет, — Лилит сообщила негромко, когда я уже соскребала остатки, наклонив тарелку.
Ошарашила.
Но спасибо сказать я не успела — шум отвлек.
Грохот.
И Лилит нахмурилась и подорвалась первой, чтобы щелкнуть выключателем в зале и хорошо поставленным голосом поинтересоваться:
— Егор Николаевич?
Удивилась, а я выглянула, чтобы увидеть знакомое хамло по каноном несуществующего учебника. Егора Николаевича со всеми почестями и уважениями Люба тогда определила в двести девятую, в компанию дедков, что дружно храпели по ночам, хвастались кто чем болеет и щедро делились между собой таблетками.
— Лилиана Ар… Арсентьевна, там это… — Егор Николаевич замахал руками, указал на двери, и даже в полумраке его лицо было слишком бледным, испуганным, без налета привычной самоуверенности, — там… Архипычу плохо… хрипит.
Сидит, кренясь.
И мокрота с клекотом выходит розового цвета, а кожа почти синюшная.
На контрасте.
И Лилит оттесняет меня к стене, отмахивается от Егора Николаевича и на остальных двух дедков внимания не обращает.
— Даша, нитроглицерин на посту, верхний ящик, — она приказывает, удерживает Архипыча, не давая завалиться.
… А надо всем еще галочий крик и помертвелого месяца лик совсем ни к чему возник…