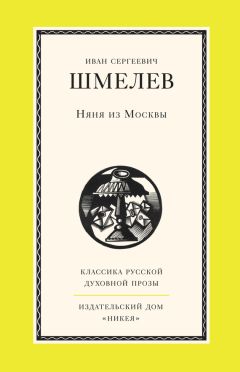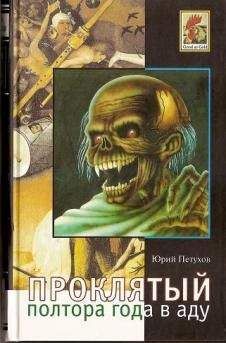Скорее, я готова придушить их сама, отойти в сторону и понаблюдать как медленно и мучительно… некрасиво, но…
— Ты меня осуждаешь, да? И Кирилл… он ведь тоже не поймет. Я вас всех разочарую, но я не могу больше так. Я устала, КилДиБил…
И только сейчас осознала, как огромно то место, что Димка занимает в моей жизни.
Набегу записанные голосовые, фразы ни о чем, идиотские мемы, песни, разговоры по дороге, что б не скучно. Оказывается, общались мы гораздо чаще, чем я считала.
Постоянно.
И сейчас постоянно я ощущаю пустоту.
Черную дыру, которую невозможно заполнить…
Я замолкаю, нажимаю, отправляя сообщение, считаю до ста, оттягивая момент, и с подоконника все же спрыгиваю. До дверей с красными буквами «Реанимация» на белесом непрозрачном стекле не так уж и далеко.
Посторонним вход воспрещен.
Красные буквы прожигают, тормозят, как позавчера и вчера.
Я… я не захожу к Димке. Я не могу к нему. Я не представляю его там, среди множества аппаратов и подведенных к нему трубок, в общей палате на шесть человек.
Это дико.
…это — из жизни не той и не той, это — когда будет век золотой…
Откуда?
Кто написал?
Вспомнить не получается, и дверь реанимации я все же тяну на себя, вхожу в царство стерильности и Кирилла Александровича Лаврова, что заведующий.
Его кабинет — вторая дверь справа — закрыт, поэтому я иду дальше. Достаю второй, свой, телефон и набрать номер Кирилла не успеваю.
Дверь кабинета старшей медсестры распахивается внезапно, впечатывается в стену, и голову я поднимаю медленно.
Моргаю.
И мир рассыпается на отдельные фрагменты.
…широкая спина, обтянутая белым халатом, скособоченный капюшон толстовки поверх, выставленная перед собой правая рука…
…расширенные зрачки, что затапливают серые глаза, оставляя узкий ободок…
…скальпель…
Остроконечный.
Подойдет для глубоких, но не широких разрезов.
Или для…угроз.
И я не успеваю, отмечая детали.
Не замечаю, когда он оказывается слишком близко, чтобы дернуть на себя и приставить к горлу острие. Вдавливает в кожу, не до крови, но…
Чувствуется.
— Еще шаг, и я ее прирежу! — он кричит, оглушая, разворачивает, дергая за волосы и впечатывая в себя, и пятится назад, заставляя торопливо перебирать ногами, запрокинуть голову. — Слышите?! Я ее прирежу!!! Ты понял?!
Понять должен Кирилл, что вопреки законам физики и инерции замирает враз, смотрит, не отрываясь на нас, и медленно поднимает руки. Ладонями вперед.
— Всё, я стою, — он говорит спокойно, размеренно, и лишь на мгновение, выдавая, дергается уголок губ. — Видишь? Мы стоим и разговариваем. Договариваемся. Ты как относишься к сделкам?
Вопрос повисает.
Застывает между нами, увязываясь в ощутимом напряжении.
Подрагивает рука, и скальпель пляшет, соскальзывает, возвращается.
Царапает.
— Сделка? — он останавливается, дышит шумно, и горячее дыхание опаляет кожу.
Заставляет сильнее сжать пальцы на его рукаве, вцепиться до судороги.
— Сделка, — Кирилл подтверждает, — ты отдаешь мне девушку, а я тебе лекарства. Ты ведь за ними пришел?
— Лекарства… да… — он спотыкается, и его волнение в голосе отражается на скальпеле, что впивается до боли, первых горячих капель крови, — мне нужны лекарства.
Наркотики.
— Хорошо, а мне нужна эта девушка. Лекарства на девушку. Меняем?
— Что? Да… нет… ты… я… я не верю тебя…
— Но ты ведь шел за ними, они тебе нужны. Сложно было сюда попасть?
— А? Сложно? Да, сложно… дверь… — он сглатывает, теряется в словах, частит, — дверь открыта была, ящики выгружали… я успел…
— Взял халат.
— Чтоб не выделяться. Он висел, бабка отвлеклась, я да, взял.
— Молодец.
— Да… нет, стой! Не смей!!! Я ее убью!
— Я стою, — Кирилл повторяет покладисто, и в безразличии его глаз на миг мелькает напряжение, страх, когда на халат и мои руки соскальзывает очередная капля крови, — я стою, только ослабь скальпель.
— Что?
— Скальпель. Не нажимай. Пожалуйста, — он просит рвано.
И на виске отчетливо проступает вена.
Кирилл на миг кидает взгляд за наши спины, и по его лицу скользит странная тень.
— Я не… я не нажимаю.
Ослабляет скальпель, и у меня получается перевести дыхание.
Задышать.
— Я… лекарства, мне очень нужны лекарства, мне плохо…
Он не договаривает, каменеет… исчезает опаляющее дыхание, руки, что сжимали до синяков, стягивали волосы, грозя снять скальп.
И остается только грохот упавшего тела, гулкий звон скальпеля, что выбивается и падает на пол, голос знакомо-незнакомый.
Веселый и все же знакомый.
Он разносится в звенящем тумане:
— Слушай, Кирюха, тебя ни на день оставить нельзя! Везде со своей отличницей приключений на ж… седалищный нерв найдете. Не, ну посмотри, как я его, а?!
— Полицию вызови, Степ, и свяжи его, — Кирилл выдыхает устало.
Почему-то над головой, хотя еще миг назад между нами были метры.
И голову поднимать больно, но я поднимаю, всматриваюсь в его глаза:
— Это — когда окончится бой, это — когда я встречусь с тобой…
— Что?
— Ахматова, — я говорю через силу, которой у меня уже нет.
Я исчерпала все и до дна, и сказать хватает только коротко, на одном дыхании, уже теряя сознание:
— Димка любит Ахматову, это ее стихи, я вспомнила…
[1] А.А. Ахматова «Справа раскинулись пустыри…»
Глава 36
Кабинет огромен.
Гулок.
И окна, большие, бликуют холодным сверканием, когда очередной раскат грома сливается с белесым полыханием всего неба. Барабанят тяжелые, громоздкие капли по железу и крыши, и карниза. Шелестят листья деревьев, покачиваются, и темные ветки скрюченными тенями пляшут по противоположной стене, искажают рисунок потертых обоев.
— Мы не боимся, правда? — я произношу шепотом.
Почти неслышно.
Прижимаю Монтигомо, зарываясь носом в короткую серую шерсть, которую мама смеется и называет плюшем.
Она просто ничего не понимает.
Как и Венька.
Дурак.
Он вчера дразнил Монтигомо трусливым зайцем.
Неправда.
Мой Монтигомо, пусть и с длинными ушами, но он не трус! Он самый настоящий Ястребиный Коготь, вождь непобедимых, о котором читала тетя Глаша и строго говорила, что не знать Чехова — преступление.
— Ну и что, что мы зайцы, зайцы тоже бывают храбрыми! — я говорю убежденно.
Но очередной раскат грома заставляет вздрогнуть, сесть, вызывая протяжный скрип дивана и посмотреть в окно.
Там на мгновение становится светло, и освещенную фонарем площадку затапливает светом, подчеркивает скамейку, деревья за бордюром и черноту между ними, что тоже прорезается молниями.
Вспоминаются рассказы Веньки про Белую даму.
Ее призрак.
Стоны.
— Венька враль, нет никакой Дамы, и никто там не стоит, — я снова ложусь, прижимаясь спиной к холодной стене, поджимаю ноги и в отбивающие свой ритм часы с черными нервными стрелками вглядываюсь, — и стоны… ты не бойся, это тетя Глаша из триста шестой. Она добрая, и нас напугать она не хочет. Правда-правда. Ей просто плохо. Она ведь болеет. Пока, мама ее вылечит. Она всех лечит.
И сейчас тоже лечит.
Просто не здесь, в отделении.
Мама в приемном покое, и маленькая стрелка была на восьми, когда она ушла. Сейчас стрелка уже на одиннадцати, а я все еще не сплю.
И, если мама придет и увидит, то будет ругаться.
Чистить зубы и засыпать я должна была еще на девяти, но… гроза и тетя Глаша вскрикивает, охает во сне, стонет протяжно, а диван ей вторит.
И в туалет хочется.
Но… страшно, и решиться не получается.
По длинному пустому коридору, а потом направо. Мимо лестницы, с которой дует холодом и горьким дымом. И я знаю, что мамины больные бегают туда курить.
Тайком, но мама все равно узнает, отчитывает.
Еще надо пройти мимо бомжей. Сегодня их двое. Они спят, отвернувшись к стене, на полосато-розовых матрасах. Мама рассказывала, что бомжами называют тех людей, которые лишились дома и живут на улице.