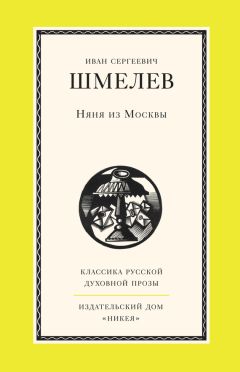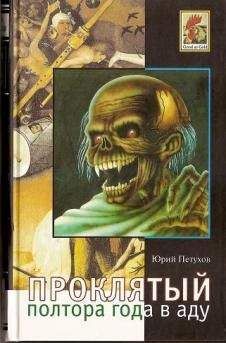И в отличие от Белой Дамы они существуют.
Выглядят страшнее, воняют… пахнут. Слово «воняют» маму сердит. Она считает, что приличные девочки так не говорят.
Впрочем, говорить «пахнут» тоже не стоит.
И зажимать нос пальцами некрасиво, мама укоряюще хмурится, но хочется. Очень-очень. Мама объясняет, что они тоже больные, но… вот тетя Глаша другая.
От нее пахнет духами, вкусными, и, когда я вырасту, она обещала подарить мне такие же. И она всегда смеется, конфетами угощает, а вчера яблоками.
И дядя Гена другой, он уже был, лежал в отделении. В мае, когда цвели яблони и мама отпустила меня с ним гулять по парку, который она назвала сквером, а дядя Гена — больничным лесом.
Лес мне понравился больше, и мы с ним увидели белку в лесу.
Рыжую.
Еще он учил делать самолетики из бумаги, всамделишные, запускать, чтоб летели долго, и когда мама его выписала, я на нее обиделась. Закусила губу, чтобы не разреветься как маленький ребенок, а мама только вздохнула и нажала мне на нос.
Для улыбки, а не слез.
И пообещала, что с дядей Геной мы еще увидимся, потому что он хроник.
Не обманула.
Позавчера его снова положили, и самолетики, которые у меня теперь получаются лучше всех в классе и на зависть Веньке, я ему уже показала.
Рассказала про все-все-все.
А он подарил мне книжку, я ведь школьницей стала.
— «Кортик», Ры-ба-ко-ва. Дядя Гена сказал, что у меня уже серьезный возраст и книги я должна читать, значит, серьезные, — я снова сажусь, разворачиваю к себе Монтигомо, голубые глаза которого смотрят весело, и вдвоем быть храбрыми все же проще, — он рассказал, что кортиком называют нож морских офицеров и что кортик скрывает тайну. Ты не переживай, я буду читать тебе вслух и тайну мы узнаем вместе.
Я вздыхаю, ерзаю и, надувая щеки, уши Монтигомо привычно поднимаю, чтобы опустить и снова поднять.
Мама угрожает, что, если я буду так делать, то уши скоро отвалятся.
— Знаешь, если мы до туалета пойдем вместе, то будет не так страшно. И может на посту сидит Катя, она нас тогда проводит.
Посторожит.
Она добрая.
И не ворчит, поджимая ярко-красные губы, как Грета Петровна, что ребенку в больнице не место. Глупости говорит, я ведь уже не ребенок, я в первый класс пошла.
Но мама с ней почему-то соглашается, вздыхает очень грустно и глаза прячет, как тогда, когда нашла меня в шкафу. Она тогда чего-то плакала, думая, что я сплю.
Зря плакала, я ведь ей объяснила, что испугался Монтигомо, а не я. В дверь стучали, кричали, и Монтигомо предложил посидеть в шкафу, внизу. Там лежали бумаги, а потом мы.
Ждали и случайно уснули, а мама вернулась и потеряла.
— Тетя Глаша говорит, что Грета Петровна разговаривает манерно, а Грета Петровна, что маме следует найти с кем оставлять ребенка, — я неловко сползаю с высокого дивана, передразниваю Грету Петровну и, не выпуская Монтигомо, ищу балетки, они как обычно куда-то разбежались, — она глупая, но считает себя умной. Мама ведь и так оставляет нас у тети Глаши или Вики, когда может.
Просто сегодня тетя Глаша сама здесь, а Вика, мамина подружка, в командировке, из которой вернется обязательно с подарками.
— Вика обещала привезти куклу, чтоб прически делать, а тебе она купит морковку, — мы доходим до двери.
И ключ нужно подцепить с крючка, что около раковины, вставить и повернуть два раза в сторону стены. Мама меня учила.
Если надо будет выйти очень-очень.
— А нам с тобой очень-очень надо, — я пыхчу, и до ключа все же дотягиваюсь, высунув от усердия язык и встав на цыпочки. — И мы же быстро. Одна нога там, другая здесь.
Так любит говорить дядя Гена.
И с замком мы с Монтигомо справляемся, высовываем для начала головы.
Проверяем.
Пусто, и здесь деревья за окнами тоже тревожно шумят.
Белеют росчерки молний.
— Давай, — я его сердито подбадриваю, делаю шаг вперед, скользя в коридор, — зайцы — народ храбрый! Не дрожи…
Иди.
Шаг, два, а на шесть за спиной раздается топот, на который мы с Монтигомо удивленно оборачиваемся.
В мамином отделении бегать нельзя.
Она ругается.
Но сейчас почему-то бежит сама, кричит:
— Данька!
Догоняет странного дядьку, что несется первым.
С ножницами в руках.
На мамином столе есть такие же, и вчера я ими вырезала снежинки, а мама потом ворчала, что я намусорила и стала свинтусом.
— Даша!!!
Она визжит… страшно, а дядька оказывается рядом, подхватывает, притягивая к себе, и Монтигомо выпадает из моих рук.
— Монтигомо!
Я тянусь за ним, но дядька встряхивает, поднимает, и мне остается только протягивать руки и беспомощно болтать в воздухе ногами.
Вырываться, пока в шею больно не упирается холодный кончик ножниц…
… я просыпаюсь от собственного крика.
Сажусь резко, и сердце выдает бешенный грохот, что докатывается до висков. Бьет озноб, пробирает до костей дрожью, и в холодный пот бросает.
Давно забытые воспоминания так просто отступать не любят.
Они отдаются тупой пульсацией в затылок, и испарину со лба я стираю трясущейся ладошкой.
— Даша…
Встревоженный голос Кирилла раздается за спиной, заставляет вздрогнуть, как от удара, и повернуться к нему я не могу.
Я обхватываю себя руками, и, выравнивая дыхание, неловко спрашиваю:
— Сколько времени?
— Два, — он отвечает не сразу, после заминки, — уже полтретьего.
Ночи.
И горит только торшер, рассеивая полумрак спальни.
Кирилла.
Хотя после больницы и утреннего происшествия, как выразился холенный капитан полиции, Кирилл отвез меня домой, сдал на руки перепуганных при виде бинтов на шее мамы и Веты, вдохновенно соврал, что разбили стекло, а я проходила мимо.
Задело.
Несильно.
Шрамов не будет, как бодро протарахтел Степан Германович, оттеснив Кирилла и сам занявшийся моей шей.
Порезы неглубокие.
Мама поверила, Ветка тоже, а Кирилл уехал.
И меня хватило только до семи вечера.
Потом вернулся па, коему друг и приятель Иван Саныч уже позвонил и сдал реальную хронику произошедшего, поэтому в коридоре меня обнимали дольше и крепче обычного.
Всматривались в глаза.
И заступились, когда я попросилась к Кириллу.
Па отвез сам, поднялся со мной и… пропал.
В детской, куда его утащили суслики, заставив меня поверить в любовь с первого взгляда. Между сусликами и па такая любовь точно возникла, и ужином, устраивая полеты ложек и усадив на колени, кормил их он, рассказывал истории, от которых монстры восторженно визжали и слушали, затаив дыхания.
Играл с ними в лошадку, нарезая круги вокруг диванов.
А я, не в силах сдержать улыбку, от дверей наблюдала за невозможной картиной, где главный внештатный неонатолог области на четвереньках, мотая головой и разговаривая мультяшным голосом, разгуливает по квартире.
Видели бы его все те, кто видит на совещаниях, а потом выползает оттуда, глотая валерьянку и радуясь, что остались живы.
— Знаешь, ты переезжаешь ко мне, — Кирилл подкрался незаметно, сказал тихо, но сердито, и притянул к себе.
— Почему? — я спросила шепотом, и, высунув язык, скорчила Яну рожицу в ответ.
— Потому что я сам готов был ехать тебя забирать обратно. Твоя зубная щетка в ванной, а в прихожей лежит массажка, поэтому давай сойдемся на том, что ты и так теперь живешь со мной. Остальные вещи заберешь завтра.
Лавров объявил решительно, сверкнул глазами, заставляя забыть все возражения и весомые аргументы, что начинались со слов: «слишком быстро…»
Утянул на диван, потому что посреди океана стоять невозможно по законам физики, то ли дело палуба корабля, который брали на абордаж два юных пирата под командованием старого Флинта…
— Даша… — Кирилл повторяет мягко.
Возвращает в действительность, и, судя по шороху бумаг, он не спал. И я не выдерживаю, смотрю все же на него через плечо.
Кирилл одет, сидит поверх одеяла, и его напряженный взгляд заставляет отвернуться, спросить и так понятное: