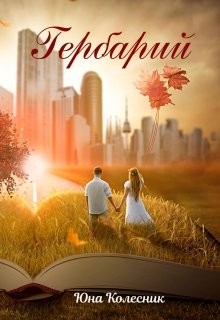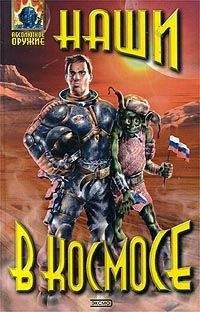— …куда пришла после занятий вместе с Новиковой Олесей Степановной, также 1998 года рождения, проживающей по вышеуказанному адресу.
«И что же теперь будет? Суд? Или это не сразу? Может, сериал какой криминальный посмотреть? Не смотришь ты сериалы. Тебе учиться надо. Вот, точно — нужно прочесть Кодекс. Какой? Какой-какой — уголовный. Надо в библиотеке взять. Или он в интернете есть? Всё. Теперь и руки затряслись. Нет, в суд нельзя. Артём же сказал: “Никиту отчислят, если это будет уголовное дело”. Да какая тебе разница? Их десятками отчисляют. С бюджета-то. А ты — староста, а у тебя — репутация».
– Примерно в восемнадцать десять мы вдвоём с Новиковой О. С. находились на кухне в левом крыле второго этажа. Потерпевший Лазарев М. А., будучи в нетрезвом состоянии, подошёл к нам и стал требовать от Новиковой О. С. немедленно пройти с ним. При этом он нецензурно выражался и угрожал применить силу.
«Как красиво это на их языке звучит», — коробит Милку. Дознаватель монотонно читает сейчас о Максе, это он и есть — Лазарев М. А. Милка видела его всего раз пять, считала не то чтобы странной или загадочной личностью, как некоторые, нет, он просто на клеточном уровне был ей неприятен.
Милке гадко, физически противно, до кислого привкуса во рту, вспоминать подробности, лучше бы забыть, зачеркнуть, но ей приходится заставлять себя:
«Да, он пьян был, сильно… За руки Олеську хватал, кричал, что она должна на коленях перед ним ползать. “Ты кого из себя возомнила? Да все девки здесь шлюхи! Шлюхи продажные!” Матерился, как же страшно он матерился… А Олеська только молча выдиралась. И все тоже молчали… народу ведь много было — человек восемь, и парней вроде двое, они то ли готовили, то ли разогревали… Вот почему ничего не сделали-то? Да, да, да… Ты ж не знаешь ничего. И про Макса с Олеськой дела-отношения тоже не знаешь».
— …На шум из комнаты номер двести четырнадцать вышли мои однокурсники: Колесов А. В. и Чижов Н. П. Они вежливо сделали Лазареву М. А. замечание о недопустимости подобного поведения в общественном месте. Потерпевший, замахнувшись, попытался спровоцировать драку, но ударить никого не успел.
«Но Чиж и правда не бил его! Они с Артёмом в кухню влетели, Чиж Макса за шиворот уцепил, как котёнка, и потащил от Олеськи: “Ты, мразь, грабли убери свои!” Тот развернулся, наверное, ударить хотел, а Чиж просто как-то руку подставил и отшвырнул его, легко, как тряпку… Тот и полетел. А за ним сзади — окно. И рама открытая, старая, деревянная. А открыта, потому что у Машки рис подгорел…»
Милка морщит нос, словно бы снова чувствуя этот запах чёрной эмалированной кастрюльки, так и оставшейся в раковине.
— …Потерпевший не смог устоять на ногах и упал, разбив правой рукой оконное стекло, тем самым нанеся себе резаную рану. Ушибленная рана на голове является следствием удара о подоконник.
«Рана, да… Как он его кинул… Разве так бывает? Кто-то сказал тогда, на кухне, что это айкидо. Как у Стивена Сигала. А я не знаю, кто это. Сколько вопросов… Как многого ты не знаешь… Почему ты так много не знаешь? Зачем ты вообще учишься?» Милке хочется плакать.
— Всё так, Людмила Андреевна? Всё верно?
— Всё верно…
Милка думает: «Да, верно. Почти верно».
Илья Петрович смотрит на неё, а она смотрит в пол, на облезлые, щербатые паркетины, пытаясь скрыть от него слёзы. Но он видит, как блестят ресницы. «Почему плачет? Кого ей жалко? Скорее, просто страшно. Боится. Домашняя девчонка-то».
Она не замечает взгляда дознавателя, она снова переживает тот кусочек фильма, в котором ей довелось сниматься сегодня. Звон стекла, кровь… много крови, визг девчонок. И Макс сползает на пол, и его распоротая куртка, и голова в крови… Олеська в углу — в истерике. И сама Милка около неё, вцепившаяся в стену. Слишком быстро всё произошло. И страшно. Она опять видит, как Чиж смотрит на Лазарева, как… на клопа, что ли, с каким-то диким отвращением. Как берёт он электрическую зажигалку от плиты, длинную такую, на проводе, и щёлкает, и смотрит на пламя, и прикуривает от неё. Не спеша, молча. И стоит около этого окна, как у дыры в небо. Там, за окном, видны деревья на берегу, откос. И река, и город, как на ладони.
И тут включаются звуки, словно кнопкой с пульта. Артём, уже присевший рядом с Максом, говорит чётко и по-деловому, затягивая тому руку несвежим серым полотенцем:
— Так. Довыделывались оба, красавы! И чего, ментов теперь ждать? Но если заведут дело, Чижа отчислят. Как пить дать отчислят. На нём один дебош висит уже. И комендантша вот-вот прискачет, явно какая-нибудь сволота ей уже позвонила, — он обводит всех взглядом, неожиданно подмигивает. — Стоим, ждём, так? А при ней хором говорим, что этот долбанутый сам упал на подоконник. Все, слышите? Маша, Дэн?
И дальше — гвалт голосов, говорят все, почти разом:
— Тёма, мы с Машкой уж лучше в комнате запрёмся.
— Не-не-не, Тём, я скажу, что в наушниках была и вообще не в курсах.
— Уберите кровищу эту, уберите же кто-нибудь!.. — это стонет Олеся.
— Тёмыч, за мной один привод уже есть. Я с ментами общаться не буду, только хуже будет. Уж уволь.
И ползут, как тараканы, к дверям, к дверям.
И Милка видит растерянность в зелёных глазах Артёма. Он поднимается:
— Народ, хорошо, да вы что?
И тут — смех. Его, Чижа, смех. Тихонько, будто сам с собой, он смеётся, глядя в окно, ломая, кроша в пальцах недокуренную сигарету. Все как-то враз замолкают, слышны только Олеськины всхлипы и сиплое дыхание Макса, который, не вытирая текущую изо рта гадкую струйку слюны, пытаясь подняться на четвереньки, по-звериному рычит: «Да я всех вас посажу! Всех, сволочи!» На этом фоне Милка слышит свой собственный писклявый голосок:
— Артём, я скажу. Только ещё раз объясни, как надо.
Дознаватель не должен увидеть, что она врёт. Но он будто и не обращает на неё никакого внимания, всё читает и читает:
— …Колесов А. В. и Чижов Н. П. оказали ему первую медицинскую помощь, а также вызвали коменданта общежития и бригаду скорой помощи. Так? — наконец снова обращается к ней.
— Так.
— Тогда заканчиваем. С моих слов записано верно, мною прочитано, дополнений не имею. Всё правильно?
— Да. Правильно.
Он прищуривает глаза. Снимает очки, протягивает ей ручку. Солидную, перьевую, никак не подходящую ни к этой лампе, ни к зачуханному паркету.
— Тогда подписывайте, Людмила Андревна.
Ручка выскальзывает из её влажных пальцев. Но она ловит, перехватывает поудобнее, ставит закорючку. Поднимает на него глаза, в мозгу бьётся одна-единственная мысль: «Всё, Милка. Всё. И что теперь будет?»
А Илье Петровичу уже хочется улыбнуться: «Ой, врёшь ты всё, староста. Из-за девчонки небось сцепились парни. Жаль, не из-за тебя, мышь серая. А тебя — сюда, ко мне, отдуваться. Под лампу эту чёртову. И всю свою жизнь вот так будешь — тащить, отмазывать, спасать».
Он некрасиво скрипит зубами, но вдруг, неожиданно для самого себя, всё-таки улыбается:
— Не волнуйтесь вы так. Идите… Людмила.
Она одевается, шагает по коридору, пересекает вестибюль и выходит в ночь, не чувствуя заледеневших рук. На крыльце никого нет, а она так надеялась, что Артём дождётся её. Неприятный осадок камушком падает где-то возле сердца.
«Темно… Как же темно. Почему нет фонарей? Крыльцо, ступени. Вниз и направо, да… бегом отсюда, бегом — на автобус и домой!» Вот и ворота в бетонном заборе. Милка замечает блеснувшую наверху спираль колючей проволоки, ужасается. Резко поворачивает, помнит, что тут вдоль стены немножко совсем, и будет виден проспект, там — люди, там — машины… Поворот — и она чуть не натыкается на дрожащий в темноте огонёк. Темно. Только очертания фигуры — капюшон, куртка. Горький запах табака. И голос. Хриплый голос:
— Стой.
После короткой душной паузы:
— Ну чего там?
Чиж… Она растеряна. Откуда ей знать — чего? Но надо же что-то отвечать…