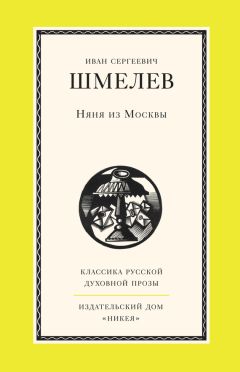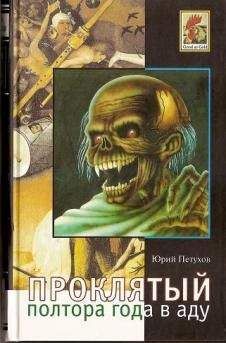Не прячет хитрой улыбки.
И я фыркаю, насмешливо предрекая:
— Чистый?
Заламываю брови, а она щурится, дает себе пару секунд, прежде чем согласно кивнуть:
— Чистый.
Посмотрим.
Давать получить десять очков из оговоренных двадцати я без боя не намерена. Тем более в чистую.
Меня тоже учили играть в преферанс.
— Вист, Алла Ильинична, — я соглашаюсь, пусть и не по правилам, откидываюсь на спинку стула.
Улыбаюсь не менее коварно и… отвлекаюсь.
Не только жена, скатерть, шум и жадность — злейшие враги преферанса. Моя Авария тоже. Она подкрадывается незаметно, царапает по ткани джинс, привлекая внимание, и пестрый носок, активно виляя хвостом и пятясь задом, с меня пытается стащить.
— Ты ж мишка… — я откладываю карты, произношу с несвойственным умилением что-то среднее между «мишкой» и «мышкой» и на руки четырехлапого ребенка беру.
Смотрю в преданные черные глазёнки.
И чувствую, что уже по левой ноге, скребет второй диверсант, скулит обиженно и гавкает возмущенно, задирая медвежью башку песочного окраса.
Не удерживает равновесие и на бок плюхается.
— Иди сюда, чудовище, — я фыркаю и его тоже поднимаю.
Прижимаю к себе и Алле Ильиничне, что на слишком быстро подросших и потяжелевших щенков взирает с нежностью и теплотой, провокационно улыбаюсь:
— Уверены, что не хотите оставить себе?
— Деточка моя, — она выговаривает манерно, поправляет кокетливым движением накрученный тюрбаном пестрый платок, — не при моем давлении иметь в квартире активную молодежь. Слишком утомительно для такой старухи, как я. Молодым с молодыми.
Алла Ильинична показательно сетует.
И я смеюсь, ибо больные старухи уже успели виртуозно обеспечить меня неплохой горой[2], поэтому словить мизер, вручив взятку, теперь дело чести.
Марьяж[3] мне в помощь.
А кутята во вред.
— Как Кирюша отнесся к пополнению в семье? — Алла Ильинична вопрошает с любопытством, тянется к лежащему на краю стола черепаховому портсигару.
Я же неловко перехватываю взятые снова карты, не роняю их, рассыпая по полу, только чудом, потому что… странно.
Непривычно.
Слышать семья, про себя и Лаврова.
Семья?
Наверное, да, нет и… да.
У нас… собака.
Общая.
Пусть Кирилл и кривился два дня, что собаки — алабая, Дашка! — в квартире не будет. Ругался, что гулять с хвостатым чудовищем будет некому. И еще сильнее ругался, когда тайно принесенное чудовище в компании второго чудовища тайно сгрызло ему ботинки.
Прочитал длиннейшую лекцию, кою не пропустила б ни одна цензура, двум поникшим мордам с запредельным раскаяньем в черных глазах, споткнулся на очередном виноватом взгляде и бессильно махнул рукой.
Выдвинул условие, что, выбранного мной, черного кутенка звать SOS не будем, и после долгих споров мы сошлись на Аварии, попутно выяснив, что я ничегошеньки не понимаю в собаках и их именах.
— Он был рад, — я выразительно хмыкаю и злейших врагов преферанса на пол все же отправляю, наблюдаю искоса, как они покачиваются.
Путаются лапы.
И Алла Ильинична насовсем отдавать щенков пока отказалась, непреклонно объявив, что дети для жизни с болванами вроде нас еще не выросли.
Морально не готовы.
— Кому вы второго? — она интересуется невзначай, вынимает пахитоску и вопросительно на нее кивает, морщится, объясняя и цитируя. — Не кури никогда, Даша. Курение — это цепь унижений, все время надо спрашивать у кого-то разрешение.
Она смотрит исподлобья.
Лукаво.
Подначивает.
Как и с вопросом на лестничной площадке про умение играть в преферанс. Положительного ответа Алла Ильинична не ожидала, а я не ожидала, что она окажется старой приятельницей тети Глаши, коя меня в преферанс и учила играть.
Чиркала также независимо сигарными спичками и дымила грациозно.
— Ахматова, Алла Ильинична, — на вопрос в ее глазах я отвечаю, добавляю, помедлив, на вслух заданный. — Димке, песочного отдадим Диме.
— Как он? — она затягивается, смотрит пронзительно.
И неуместным ее вопрос не кажется.
Не вызывает удивление осведомленность обо всем на свете.
Не раздражает.
— Поправится, — я говорю уверенно.
И карты перед глазами туманятся, общая палата реанимации видится отчетливей. Димка… нормально, если нормальным можно считать полуторанедельную кому и стабильно тяжелое состояние. Впавшие щеки и провалы глаз, утыканные иглами руки и введенные куда только можно и нельзя трубки.
Впрочем, можно считать, следует. Нам… повезло, как отстраненно и решительно сказала мама, вернувшись с похорон Алёны и в спальню прошла, не раздеваясь и ни на кого не глядя. Па же только вздохнул и ссутулился первый раз в жизни.
— Больше часа не думай, Дарья, — Алла Ильинична напоминает с иронией, постукивает по перевернутым открытым картам тонкими пальцами.
Дает время запомнить.
Записать.
Вот только не записываю. На десяток с небольшим карт моей памяти хватает, и, рассматривая разложенный передо мной веер, я пытаюсь просчитать какие две карты выкинет Алла Ильинична.
Какие бы карты выкинула тетя Глаша?
— Я сегодня первый раз провожала на поезд, — я произношу задумчиво, наблюдаю, как соседка Лаврова неспешно собирает свои карты.
Делюсь.
Утренним туманом и прохладой, запахом креозита и подземной сыростью из вокзального перехода, солнцем, только опалившим горизонт на востоке, и чернотой медленно уходящей ночи на западе.
Лязгом состава.
Редкими пассажирами, что все равно толпятся, толкаются и суетятся. Прощаются громко, перебивая друг друга быстрой речью, словно боясь не успеть сказать самое важное, обнимаются и смеются, утирая слезы.
Мы же молчим.
Точно зная, что самого важного сказать невозможно.
Рассматриваем друг друга, словно в первый раз.
Заново, как тогда, в первый день, без месяца два года назад.
— Помнишь первое сентября? — мысли сходятся, и Нина хрипло интересуется, опережая.
— Помню, — я заставляю себя улыбнуться, продолжить, — суббота была. У всех линейки и знакомство.
— А у нас сразу пара в больнице.
— На которую даже препод на явился.
— Прождали в холле.
— И узнали, что Аглая Викторовна, незабвенная, заменяет и ждет битый час нас вон в том зале, что на пятом этаже соседнего корпуса.
— Который мы должны были найти с помощью третьего глаза.
— А Женька в обморок во время ее обличительной речи упала.
— Аглая испугалась больше всех.
— Мы по этажам побежали.
— Подняли на уши всю больницу.
— Даже реанимация в итоге прибежала.
— А Женька сама в себя пришла, — Нина улыбается, сжимает до побелевших пальцев ручку чемодана, оглядывается на вагон и проводницу, что зычно объявляет об отправке поезда «Москва-Барнаул» через пять минут. — Даш… ты скажи нашим.
Про академ.
И поезд на Алтай, а потом еще на автобусе до глухой деревни, где пустует дом Аниных родственников.
Идея уехать была ее.
— Скажу, — я обещаю.
А проводница просит всех провожающих покинуть вагон и зайти тех, кто уезжает. Поезд отходит через три минуты.
— Прости, что так, — Нина снова оглядывается, поворачивается, чтобы обнять порывисто и крепко, прошептать, глядя на слепящее солнце за моей спиной, — и спасибо за все. И нашим… извинись.
За молчание.
Почти побег без прощаний и объяснений.
— Они поймут, — я говорю твердо.
И мы цепляемся до последней минуты, за которой следует гулкость опустевшего перрона, скрывающийся за поворотом хвост состава и оглушительное непонимание.
Растерянность.
Отряд не заметил потери бойцы… ложь.
Без Нины будет по-другому…
— Ей надо время, Даша, — Алла Ильинична говорит не менее задумчиво, подбирает слова и перебирает карты, сносит две ненужные, — иногда уехать это тоже выход.
Единственный и лучший.
— Я… понимаю.
Или скоро пойму.
Мне тоже нужно время.
— И не кисни, — она смотрит строга, приказывает.