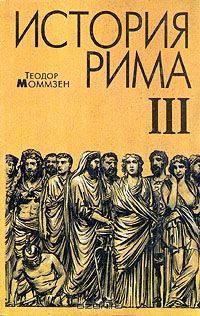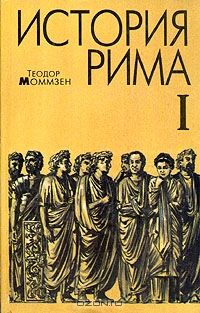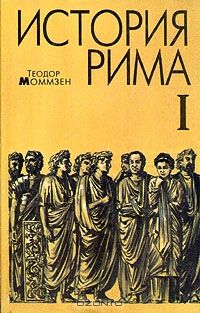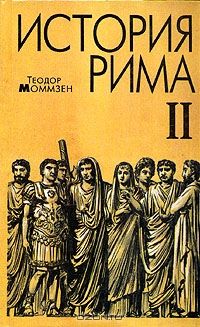Пытаясь рассказать, как совершился в отдельности переход от старых порядков к новым, мы прежде всего должны напомнить, что Цезарь явился не для того, чтобы начать, а чтобы закончить. План новой, соответствующей требованиям времени политики, давно уже намеченный Гаем Гракхом, проводился его приверженцами и последователями с большим или меньшим талантом и счастьем, но без колебаний. Цезарь, бывший с первых шагов своих и как бы в силу наследственного права главой партии популяров, высоко держал ее знамя в течение тридцати лет, никогда не меняя и не скрывая своих убеждений; он оставался демократом даже тогда, когда сделался монархом. Если он принял наследство своей партии без ограничений, за исключением, конечно, извращений, допущенных Катилиной и Клодием, питая к аристократии и к подлинным аристократам сильнейшую, даже личную, вражду, неизменно придерживаясь всех основных идей римской демократии, — именно облегчения положения должников, необходимости заморской колонизации, постепенного уравнения правовых различий, существовавших между различными группами подданных государства, освобождения исполнительной власти от контроля сената, — то и его монархия так мало расходилась с демократией, что казалось, будто последняя получила свое осуществление и завершение именно благодаря первой. В самом деле, эта монархия не была восточной деспотией милостью божией, а такой монархией, какую хотел основать Гай Гракх и какую основали Перикл и Кромвель, т. е. представительством народа в лице его доверенного, облеченного высшей и неограниченной властью. Таким образом, идеи, лежавшие в основе дела Цезаря, не были в сущности новыми; но за ним остается их осуществление, что в конце концов является всегда самым важным; за ним же — грандиозность совершенного, которое, быть может, привело бы в изумление даже гениального составителя плана, если бы он мог все это видеть, и которое, смотря по степени понимания человеческого и исторического величия, наполняло и вечно будет наполнять все более и более глубоким волнением и изумлением каждого, кто созерцал его в живой действительности или в зеркале истории, к какой бы исторической эпохе или политической партии он ни принадлежал.
Здесь будет уместно категорически заявить о том, что историк всегда молчаливо предполагает, и протестовать против привычки, свойственной как недомыслию, так и низости, именно против привычки, отделяя историческую похвалу и порицание от конкретных условий, пользоваться ими как ходячими фразами и превращать в данном случае суждение о Цезаре в суждение о так называемом цезаризме вообще. История минувших веков должна, конечно, быть наставницей для нашего времени, но не в том пошлом смысле, будто для решения вопросов настоящего достаточно просто перелистать рассказы о прошлом, чтобы найти там все симптомы и средства для политического диагноза и искусства прописывать рецепты. Нет, история минувшего поучительна лишь постольку, поскольку в ней открываются путем наблюдений над более древними культурами органические условия цивилизации вообще, повсюду одинаковые основные силы и всюду различные сочетания их, и поскольку вместо бессмысленного подражания она, напротив, направляет и одушевляет нас к самостоятельному дальнейшему творчеству. В этом смысле история Цезаря и римского цезаризма при всем непревзойденном величии ее главного героя, при всей исторической необходимости самого дела является поистине более резкой критикой современной автократии, чем все, что могло бы быть написано человеческой рукой. На основании того же закона природы, в силу которого ничтожнейший организм несравненно выше самой художественной машины, каждая, даже самая несовершенная форма правления, дающая простор свободному самоопределению большинства граждан, несравненно выше гениальнейшего и гуманнейшего абсолютизма, так как первая способна к развитию, следовательно, жизненна, второй же остается, чем он был, и, следовательно, мертв. Этот закон природы нашел себе подтверждение и на примере римской абсолютной военной монархии, и притом подтверждение тем более полное, что благодаря гениальному импульсу ее творца и отсутствию каких-либо существенных осложнений за пределами страны эта монархия сложилась в более чистом и свободном виде, чем какое-либо другое подобное государство. Начиная с Цезаря, как это видно будет из нашего дальнейшего изложения и как давно уже было показано Гиббоном, римский строй держался только внешним образом и расширялся лишь механически, внутренне засыхая и отмирая окончательно вместе со своим основателем. Если при начале автократического режима и прежде всего в самой душе Цезаря господствовала полная надежд мечта о слиянии свободного демократического строя с абсолютной монархией, то уже царствование высокоодаренных императоров Юлиевой династии устрашающим образом доказало, что невозможно соединить в одном сосуде огонь и воду. Дело Цезаря было необходимо и благотворно не потому, что оно само по себе приносило или даже могло лишь принести благоденствие, а потому, что при античной народной организации, построенной на рабстве и совершенно чуждой республиканско-конституционного представительства, и рядом с законным городским строем, превратившимся за пять веков существования в олигархический абсолютизм, неограниченная военная монархия являлась логически необходимым завершением постройки и наименьшим злом. Когда в Виргинии и Каролине рабовладельческая аристократия доведет дело до того, до чего довели единомышленники ее в Риме времен Суллы, тогда и там цезаризм найдет себе оправдание перед судом истории 85 , там, где он водворяется при других исторических условиях, он кажется нам карикатурой и узурпацией. История не согласится отнять у настоящего Цезаря часть подобающих ему почестей потому только, что подобный приговор, вынесенный дурным цезарям, может ввести в заблуждение наивных людей и дать злобе пищу ко лжи и обману. История — та же библия, и если она, подобно библии, не может помешать тому, чтобы глупцы понимали ее ложно и чтобы дьявол ссылался на нее при случае, то и она, подобно библии же, будет в состоянии вынести и то и другое и все компенсировать.
Положение нового главы государства формально определяется прежде всего как диктатура. Цезарь принял на себя диктатуру впервые по возвращении из Испании в 705 г. [49 г.], но снова сложил ее с себя через несколько дней и совершил столь важный поход 706 г. [48 г.] просто в звании консула, — это была та должность, из-за замещения которой, главным образом, вспыхнула гражданская война. Осенью того же года, после битвы при Фарсале, Цезарь снова вернулся к диктатуре и добился того, чтобы она была вторично передана ему, сначала на неопределенное время, с первого же января 709 г. [45 г.] — в виде годичной должности, а вслед затем, в январе или феврале 710 г. [44 г.] 86 , — на все продолжение его жизни, так что под конец он перестал вспоминать о срочности своей должности и формально выразил ее пожизненность в своем новом титуле dictator perpetuus (пожизненный диктатор). Эта диктатура, как первая — эфемерная, так и вторая — прочная, не была диктатурой старинной конституции, а высшей экстраординарной должностью по типу установлений Суллы, только по имени схожей со старинной диктатурой. Это была должность, полномочия которой определялись не конституционными распорядками, касающимися высшей единоличной власти, а особым решением народного собрания, а именно, постановлением, что носитель этой власти получает специальное поручение составить проекты законов и преобразовать государственный строй, а для этого получает и юридически неограниченные полномочия, упраздняющие республиканское разделение властей. Если случается, что диктатору поручается еще особыми актами право решать вопрос о войне и мире, не спрашивая мнения ни сената, ни народа, а также право самостоятельно располагать войском и казной и назначать провинциальных наместников, то это является лишь применением этого общего правила к частному случаю; даже такие функции, которые находились вне компетенции магистратов и даже государственных властей вообще, Цезарь мог присвоить себе, не совершая правонарушения; с его стороны является настоящей уступкой, что он отказался от назначения магистратов помимо комиций и ограничился по отношению к некоторому числу преторов и низших властей тем, что присвоил себе существенно связывавшее избирателей право предложения кандидатов; точно так же он добился особого народного постановления, которое уполномочивало его назначать новых патрициев, что вообще не допускалось существовавшими обычаями.
Рядом с такой диктатурой не оставалось, в сущности, и места для других должностей. Цезарь никогда не брал на себя цензуры 87 как таковой, но в широких размерах пользовался правами цензоров, именно важнейшим из них, — правом назначения сенаторов. Консульство он часто отправлял параллельно с диктатурой, однажды даже занимал пост консула без коллеги, но вовсе не желал надолго закрепить его за собой и никогда не давал ходу предложениям принять его на пять или даже на десять лет подряд. Главный надзор за культом Цезарю не приходилось вновь принимать на себя, так как он уже был верховным понтификом. Понятно, что ему выпало на долю и звание члена коллегии авгуров, да и вообще множество старинных и новых почестей, как, например, титул отца отечества, наименование месяца, в котором он родился, его именем, сохранившееся до сих пор (июль), и другие выражения зарождавшегося придворного тона, превратившегося под конец в пошлое обоготворение. Заслуживают внимания лишь два нововведения, а именно, что Цезарь, во-первых, в отношении особой личной неприкосновенности был приравнен к народным трибунам, и, во-вторых, что наименование его императором было навсегда закреплено за его личностью и стало его титулом наравне с прочими обозначениями его должностей 88 .