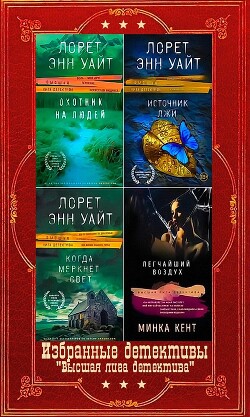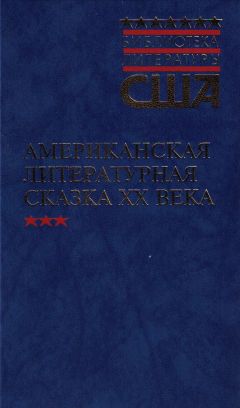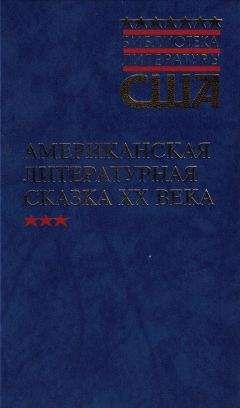современных обстоятельств, не говоря уже о будущем. Считалось, что в противном случае история обречена на идеологические искажения и ошибки. Такие романисты, как Бальзак, Флобер и Диккенс, рассматривали настоящее как прямое следствие и результат исторического прошлого и в то же время считали, что оно претерпевает изменения под воздействием тех же процессов, которые происходили в прошлом. Они нарушали табу и пересекали границу, разделявшую прошлое и настоящее и позволявшую воспринимать настоящее как стабильную платформу, с которой о беспорядках и конфликтах прошлого можно было размышлять
sine ira et studio 81 подобно тому, как после долгого морского путешествия мы наблюдаем море с тихого и спокойного берега. Тот факт, что литература реализма рассматривала настоящее как историю, фактически разделил временной континуум между историками и презентистами. Первые должны были картографировать прошлое во всей его контингентности и партикулярности, а вторые занимались «истористским» анализом новой социальной реальности, возникающей из недавнего прошлого Революции и Реакции. Более того, реалистический роман стал той территорией, где новый доминирующий класс, недавно узаконивший свое положение, мог репетировать свою роль в драме конфликта между желанием и необходимостью, о которой прошлые поколения не могли и мечтать. Ирония заключается в том, что чем больше история преуспевала в трансформации в (своего рода) науку – объективную, эмпирическую, партикулярную – тем больше знания о прошлом, производимые историей, отдалялись от поколений, столкнувшихся с новыми социальными реалиями. После расколдовывания мира буржуа, произведенного Марксом, Дарвином и Фрейдом, одна только «история» оставалась источником фактов и реальности, на основании которых можно было формировать представление о настоящем и видение возможного будущего. Отсюда расцвет «философии истории» – как ее с презрением стали называть профессиональные историки, – родившейся из стремления обобщить и синтезировать те частные истины, которые профессиональные историки отыскали в результате расхищения архивов старой Европы.
Редко отмечают, что наряду с «философией истории» (Конт, Гегель, Бокль, Маркс, Спенсер, Тэн, а также Шпенглер, Тойнби, Лессинг, Фёгелин, Кроче, Джентиле и другие) и под влиянием тех же факторов возникла другая и более авторитетная идея о том, из чего состоит история и темпоральность, упорядоченная с помощью исторических категорий. Эта другая идея истории, возникшая параллельно с историей историков и в противовес ей, процветала в литературе, поэзии и драме, но прежде всего – в реалистическом романе. Со временем это привело к созданию прошлого, которое сильно отличалось от того прошлого, что было предметом интереса профессиональных историков. Это было «практическое прошлое» из заглавия моей книги, прошлое, которое, в отличие от прошлого историков, переживается всеми нами более или менее индивидуально, а также более или менее коллективно. От него зависит, как мы воспринимаем те или иные ситуации, решаем проблемы и выносим оценивающие суждения в повседневных обстоятельствах, которые никогда не переживали исторические «герои».
Различие между «историческим прошлым» и «практическим прошлым» полезно для разграничения тех подходов к изучению прошлого, которые отличают современных профессиональных историков, и тех, что свойственны обычным людям и специалистам из других дисциплин, когда они обращаются к прошлому, вспоминают или стремятся использовать его как «пространство опыта» 82, на основании которого можно выносить самые разные суждения и принимать всевозможные решения в повседневной жизни. К политическому, правовому и религиозному прошлому едва ли можно обращаться в такой ситуации, если только не рассматривать его через призму некой идеологии или какого-то parti pris 83. Можно сказать, что эти виды прошлого, несомненно, принадлежат «истории», но они редко поддаются изучению исследовательскими методами профессиональных историков. Эти виды прошлого в меньшей степени связаны со стремлением установить те или иные факты по определенной теме и в большей степени служат основанием для вынесения суждений о действиях в настоящем. Поэтому их невозможно рассматривать, следуя принципу «сначала факты, а затем интерпретация», который так дорог сердцу профессионального историка. При обращении к данным видам прошлого вопрос будет не «каковы факты?», а скорее «что можно считать фактом?» или даже «что можно считать именно „историческим“, а не просто „естественным“ (или сверхъестественным) событием?»
Необходимо подчеркнуть, что эти два вида прошлого представляют скорее описание идеальных типов, а не реальных точек зрения или идеологий. Профессиональная историография была создана (в начале XIX века) в университетах, чтобы служить интересам национального государства, помогать в создании национальных идентичностей, и использовалась при обучении педагогов, политиков, колониальных администраторов, политических и религиозных идеологов в очевидно «практических» целях. То есть она выполняла явно «практическую» функцию. Знаменитая «история как философское учение на примерах» или historia magistra vitae 84 европейской культуры XIX века была той самой историей, которую продвигали профессиональные историки как прошлое, изучаемое само по себе и в своих собственных терминах, sine ira et studio 85. Но это кажущееся двуличие профессиональных историков полностью соответствовало научной идеологии того времени, рассматривавшей естественные науки как одновременно «беспристрастные» и «практические», или общественно полезные. Такой взгляд на науку соответствовал господствовавшей тогда философии позитивизма и утилитаризма, способствовавшей трансформации научного взгляда на мир в цельное мировоззрение (Weltanschauung) 86, которое позволяло рассматривать «историю» в целом как неопровержимое доказательство прогресса цивилизации и триумфа белой расы.
Конечно, в XX веке этот миф прогресса и поддерживавший его социальный дарвинизм был подвергнут нещадной критике. Профессиональная историография ответила на это отступлением в область своего рода здравого эмпиризма, оправдывая таким образом ту нейтральность и беспристрастность, с которой она создавала свои картины исторического прошлого, выполнявшие роль идеологического болеутоляющего. Этот эмпиризм позволил профессиональной историографии провозгласить свою идеологическую нейтральность («только факты и ничего кроме фактов»), с пренебрежением взирая на «философию истории», унаследованную от Конта, Гегеля и Маркса и пропагандируемую Шпенглером, Тойнби и Кроче в период двух мировых войн, как на всего лишь «идеологию» или религиозные пророчества, выдающие себя за «историческую науку» (см., например, Поппер и Коллингвуд).
Таким образом, философия истории – какой бы пророческой, прогностической или апокалиптической она ни была – в целом не задумывалась как альтернатива так называемой простой истории (straight history). Начиная с Гегеля большинство философов истории относились к своей работе как к расширению или дополнению работы обычных историков. Они считали, что предлагают методы для обобщения, синтеза или наделения символическим значением мириад работ, написанных профессиональными историками. Эти процедуры имели своей целью изучение некоторых общих принципов природы человеческого существования с другими во времени. Справлялись они с этой задачей надлежащим образом или нет – вопрос спорный. Потому что не историкам решать, насколько хорошо или плохо философы истории использовали знания и информацию, подготовленную обычными историками, – равно как и физики не должны решать, как производимые ими знания могут быть использованы инженерами, изобретателями, предпринимателями или военными