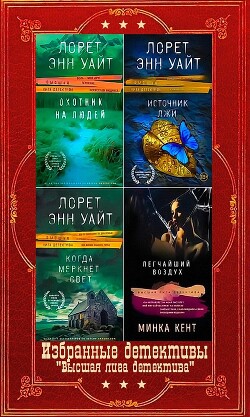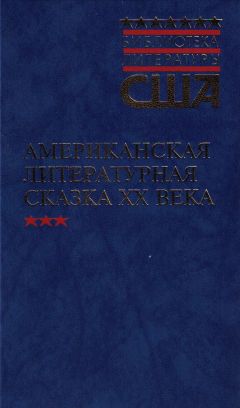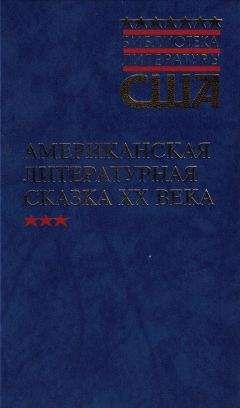и другие исследователи, понятие «литературы», выработанное в течение XIX века, предполагало не только новое «содержание», но и новые «формы». Это содержание, формализованное в доктрине «реализма», было не чем иным, как тем, что стало называться «исторической реальностью», которая больше не ограничивалась «прошлым», но также распространялась на «настоящее». Если Ауэрбах прав, то «историзм», который настаивал на рассмотрении каждого аспекта прошлого «в его собственных терминах» и «только ради него самого», без какого-либо стремления обобщать или судить о нем согласно вневременным ценностям или критериям, эта истористская установка и есть то, что наполняет содержанием, поддерживает идеологию литературного реализма и составляет основу определенного вида знания, которое, как принято считать, (реалистический) роман способен предоставлять новым социальным классам, появившимся в результате Французской и Американской революций, прихода капитализма и появления великих европейских империй Нового времени 74.
Модерный роман уходит корнями в начало XVIII века, когда авантюрная повесть (romance) трансформируется в набор пособий «как жить», ориентированных на женщин среднего класса, сидевших дома и искавших наставлений, «что нужно делать», чтобы исполнить свой долг перед Богом, мужем, семьей и друзьями в отсутствие аналогичных сословных практик, которые придавали смысл жизни женщине в крестьянской и аристократической среде 75. В связи с тем, что направление развития романа определяли мужчины, в конце XVIII века этот жанр трансформировался сначала в bildungsroman 76, а затем в роман карьеры, работы и любви классического реализма. Классовые различия, выбор карьеры, новые виды работы и труда, новые чувства и даже новые тела (неженатый дядя, незамужняя тетя, избалованный сын, распутная дочь) 77 внезапно появились на сцене «исторического настоящего». И реалистический роман, форма и содержание которого к тому времени были заданы такими авторами как Бальзак, Флобер, Диккенс, Джейн Остин, Джордж Элиот, Теккерей и другие, приступил к картографированию новой «исторической реальности». На протяжении четырех поколений он учил людей тому, как пробуждать это «прошлое в настоящем», явившееся перед Джозефом Конрадом, Генри Джеймсом, Оскаром Уайльдом, Томасом Харди и Эмилем Золя в виде загадки, которую не смогли решить профессиональные историки, ограничившиеся изучением «фактов» прошлого. Неудивительно, что представители следующего поколения, в том числе Вальтер Беньямин, будут рассматривать само профессиональное изучение истории как препятствие для любых попыток исследовать прошлое мифа, памяти и мечты и использовать его как ресурс для социального и культурного обновления. История сама превратилась из ресурса в проблему. (Конечно, не для профессиональных историков и большинства философов истории, но совершенно точно для писателей, поэтов и драматургов 78.) Ауэрбах, разумеется, был прав, когда определил содержание (или конечного референта) реалистического романа Нового времени как «историческую действительность», но великие романисты этой эпохи возрождали к жизни скорее «практическое», нежели «историческое» прошлое.
Многие аспекты такой древней и почтенной практики письма, как историография, подлежат критическому осмыслению. Совокупность «само собой разумеющихся» предпосылок, которые настолько очевидны, что считаются основополагающими для исследовательской практики – это один из важнейших ее аспектов, который должен стать предметом критики и самокритики. В исторических исследованиях одним из таких топосов является различие между фактом и вымыслом. На этом различии основывается характерная для современных исторических исследований оппозиция, имеющая, как принято считать, статус бесспорной истины – а именно, что история и литература каким-то образом настолько радикально противоположны друг другу, что любое их смешение должно подрывать авторитет одного и ценность другого.
И все же: тот вид повествования, который впоследствии станет называться «историей», возник в рамках культурных практик, которые впоследствии станут называться «литературой». И даже несмотря на то, что на протяжении двух последних веков история пыталась стать «научной» и очиститься от запятнавшего ее «литературного» (а точнее риторического) происхождения, ей так и не удалось в полной мере добиться этого. В цитате, выбранной мной в качестве эпиграфа к этой главе, де Серто утверждает, что история оказалась неспособной артикулировать свою претензию на научность без обращения к «литературе» как своей антитезе. Это противопоставление истории литературе поддерживает убежденность в том, что воображению нет места в историческом исследовании, мышлении или письме о прошлом. Именно эта убежденность препятствует стремлению истории быть «практической» дисциплиной.
Вспомним, что история с самого своего создания Геродотом и Фукидидом воспринималась как главным образом педагогическая и, безусловно, практическая дисциплина 79. Как напомнил нам Фуко, история всегда – до относительно недавнего времени – функционировала скорее как практический, а значит, этический дискурс, нежели как наука. В Античности, в Новое время и даже в Средние века исторический дискурс считался ответвлением риторики, которая наряду с теологией искала ответ на этический вопрос: что делать? Но как отмечает де Серто, трансформация исторических исследований в (псевдо-) науку повлекла за собой отказ истории от полномочий «учить философии с помощью примеров» и предоставлять заслуживающие доверия образцы тех качеств, которые считались необходимыми и, следовательно, достойными восхищения в обществе.
Действительно, литературные аспекты истории были призваны при помощи риторических и поэтических приемов приукрашивать суровые истины и обременительные обязанности, которые становились терпимыми благодаря мифологизации. Цицерон и Святой Августин оба признавали возможность использования того, что мы можем назвать литературным вымыслом, с целью передачи истины. Эта идея легла в основу оформившегося после Реформации представления о возможности разграничения между вымыслом благим и морально ответственным, с одной стороны, и вымыслом греховным и развращающим, с другой. Однако по мере трансформации истории в науку вымысел в целом и литературный вымысел в частности стали гнусным «другим» истории и тех истин о прошлом, с которыми она имеет дело. Для Ранке и его последователей категория, незадолго до этого названная «литературой» (и включавшая такие жанры, как роман и риторику в целом), служила полной противоположностью истории. Так что к концу XX века в области истории историческое письмо, обладающее отчетливыми признаками литературного произведения, сразу же признавалось любительской работой или в лучшем случае продуктом исторической чувственности, поддавшейся соблазнам фантазии.
В то же самое время, когда история трансформировалась в (псевдо-) науку, литература в целом и роман в частности также переживали революцию, впоследствии названную «реалистической». Реализм принимал множество различных форм, но отличительной чертой современного литературного реализма является то, что Ауэрбах называет «истористским» умонастроением. Если быть точнее, то речь идет о стремлении таких писателей, как Скотт, Мандзони, Дюма, Стендаль, Бальзак, Диккенс и Флобер, изобразить «настоящее как историю» (их коллеги из числа профессиональных историков занимались прямо противоположным). Как отмечает Ауэрбах, эти попытки изобразить настоящее как историю должны были представляться аномальными, потому что, согласно утвердившейся доксе профессиональной историографии, предметом исторического познания было и могло быть исключительно прошлое 80. Знание о прошлом не подлежало генерализации и использованию для понимания