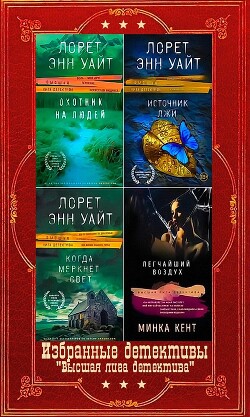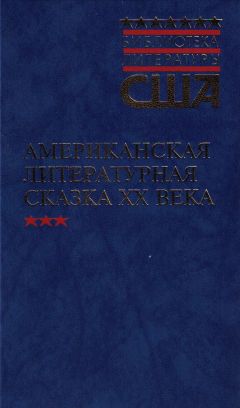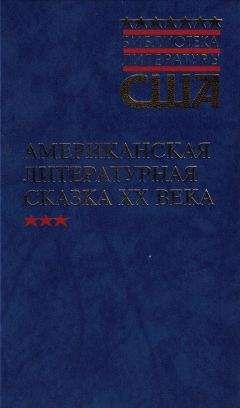паранаучной) дисциплины в том числе благодаря разрыву тысячелетних связей историо
графии с риторикой, изящной словесностью, деятельностью любителей и дилетантов, с письмом, которое было скорее «творческим» и «поэтическим» и в котором воображение, интуиция, страсть и даже предрассудки получали преимущество перед соображениями понятности, «простоты» речи и здравого смысла. Поэтому
à bas a la rhétorique! 72 Это мнение Виктора Гюго разделяли многие сторонники того, что принято называть «реалистическим романом». Наиболее видное место среди них занимает Гюстав Флобер, чья собственная разновидность реализма предполагала отказ от риторики в пользу того, что он называл «стилем». Но исключение риторики (понимаемой как теория композиции, при помощи которой определенный объем информации перерабатывается для различных практических целей, убеждения, побуждения к действию, внушения чувства уважения или отвращения и т. д.) из историологии произвело на исторические исследования эффект, весьма отличный от того, какой аналогичное исключение риторики из «литературного письма» произведет на «литературу».
Прежний риторически структурированный модус исторического письма открыто поощрял изучение и созерцание прошлого как пропедевтику жизни в публичном пространстве, как альтернативу теологии и метафизике (не говоря уже об альтернативе тому знанию, которое можно было бы получить из опыта того, что Аристотель называл «низкой» (banausic) жизнью посредством коммерции и торговли) для открытия или изобретения принципов, позволяющих ответить на центральный вопрос этики: «Что я должен (обязан) делать?»
Профессионализация исторических исследований требовала, по крайней мере, чтобы прошлое изучалось, как было сказано, «ради самого себя» или как «вещь в себе» без какого-либо скрытого мотива, помимо желания узнать правду (безусловно, правду факта, а не теории) о прошлом, и без какого-либо стремления извлечь уроки из изучения прошлого и импортировать их в настоящее для того, чтобы оправдать текущие действия и программы на будущее. Иными словами, предполагалось, что история в статусе науки, занимающейся изучением прошлого, очистит изучение прошлого от любого этического содержания и что одновременно она будет служить национальному государству в качестве стража его генеалогии. Таким образом, намереваясь изучать «историческое прошлое», историография в своей научной форме обслуживала нужды и интересы «практического прошлого».
Что такое практическое прошлое? Эта понятие встречается в поздних работах политического философа Майкла Оукшотта. Оно обозначает те представления о «прошлом», которые все мы носим с собой и на которые полагаемся, поневоле или насколько умеем, когда дело касается информации, идеалов, образцов и стратегий, пригодных для решения всех практических проблем – от личных дел до больших политических программ – внутри всего того, что мы считаем нашей настоящей «ситуацией». Мы неосознанно опираемся на это прошлое в практических вопросах, когда вспоминаем, как завести машину, произвести сложные математические вычисления, приготовить омлет и т. д. Это прошлое вытесненной памяти, мечты и желания в той же мере, как и прошлое, необходимое для принятия решений, стратегии и тактики жизни, личной и совместной.
Оукшотт обращается к концепции практического прошлого, противопоставляя его тому, что он называет «историческим прошлым», создаваемым модерными историками-профессионалами. Это исправленная и структурированная версия той части всего прошлого, чье реальное существование было установлено на основании свидетельств, приемлемость которых была заверена другими историками на апелляционном суде истории. Историческое прошлое – теоретически мотивированная конструкция, существующая только в книгах и статьях, публикуемых профессиональными историками; оно конструируется как самоцель, почти или вовсе не имеющая значения для понимания или объяснения настоящего и не содержащая никаких указаний на то, как действовать в настоящем или предвидеть будущее. Никто никогда не проживал и не испытывал историческое прошлое, потому что его невозможно постигнуть на основании сведений о том, что люди в прошлом знали или думали о современном им мире или как они представляли себе его. Историки, рассматривая прошлое из перспективы будущего состояния дел, могут претендовать на знание о прошедшем настоящем, которым не мог обладать ни один деятель прошлого в его настоящем.
Конечно, так было не всегда. Изначально историческое письмо должно было преподносить ныне живущим уроки и создавать модели поведения прежде всего для исполнения общественных дел. Так продолжалось почти до самого конца XVIII века. Но в XIX веке изучение истории перестало нести какую-либо практическую пользу именно в той мере, в какой ему удалось трансформироваться в науку. Историки могли, опираясь на надлежащим образом изученные свидетельства, сказать, в реальность каких событий, произошедших в данных частях исторического прошлого, можно верить, но они не могли сказать, как вам поступить в нынешней ситуации или решить ваши текущие практические проблемы. В ситуациях, где требуется выносить суждения и принимать решения, единственной полезной частью прошлого является та, которую Райнхарт Козеллек называл «пространством опыта» (Erfahrungsraum), это хранилище заархивированных воспоминаний, идей, мечтаний и ценностей, куда мы ходим как в своего рода «лавку древностей» в поисках намеков на то, откуда мы пришли, чтобы каким-то образом понять, что нам делать со всеми этими осколками, оставленными нам в качестве наследия сомнительной полезности для решения текущих «практических» задач.
Здесь понятие «практического» будет пониматься в кантианском смысле – как зарождение присущего исключительно человеку осознания необходимости что-то делать. Мы обращаемся к практическому прошлому памяти, сна, фантазии, опыта и воображения, когда сталкиваемся с вопросом: «Что я (или мы) должен (должны) делать?» Историческое прошлое здесь не может нам помочь, потому что оно главным образом сообщает нам о том, что люди из другого времени и места делали в то время и в том месте. Эта информация не содержит руководства, позволяющего сделать вывод о том, что мы в нашей ситуации, в наше время и в нашем месте, должны делать для того, чтобы соответствовать стандартам, установленным категорическим императивом, который обеспечивает нашу веру в возможность существования морали как таковой.
Теперь, в оставшейся части работы, я попытаюсь развить некоторые следствия из проведенного Оукшоттом различия между практическим и историческим прошлым, чтобы попытаться теоретизировать проблему, терзающую философию истории с того момента, когда началась трансформация истории из дискурса в (мнимую) науку. Эта проблема возникла в начале XIX века, когда истории потребовалось отстраниться и отмежеваться от своего прошлого риторического пристанища, чтобы оформиться в виде науки. Отчуждение истории от риторики – ветвью которой она раньше считалась наряду с эпистолографией, философией и любовным романом (см. Хью Блэр 73) – произошло в тот же самый момент, когда литература, или, если быть точнее, «литературное письмо» также отстранилось и отмежевалось от риторики. Флобер и другие отличали «литературу» от риторики, превознося стиль, понимаемый как слияние в письменной речи восприятия и суждения, над тем, что считалось формульными способами выражения классического ораторского искусства, с одной стороны, и относительно хаотичными или «спонтанными» излияниями романтического «гения» – с другой.
Однако, как продемонстрировали Эрих Ауэрбах