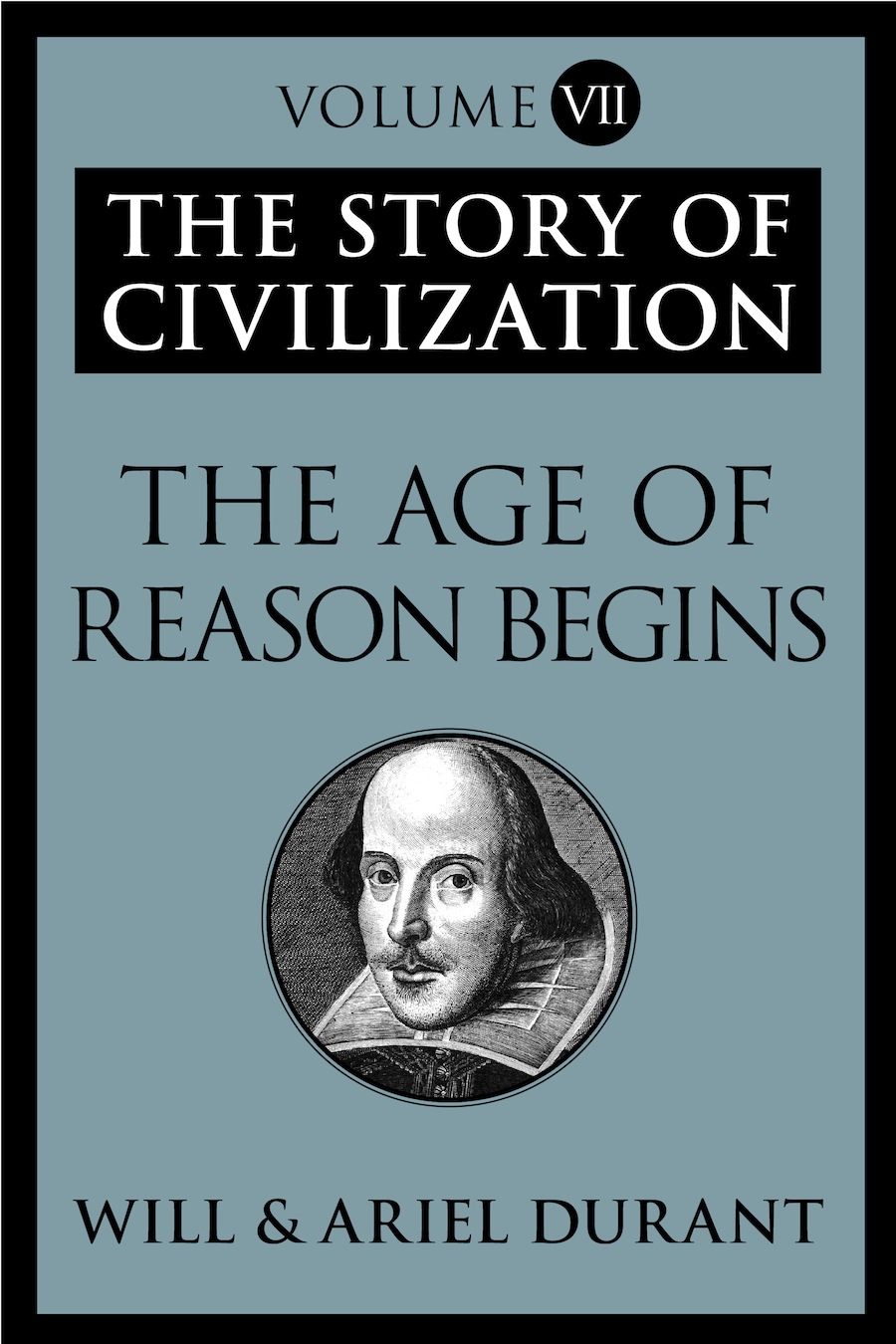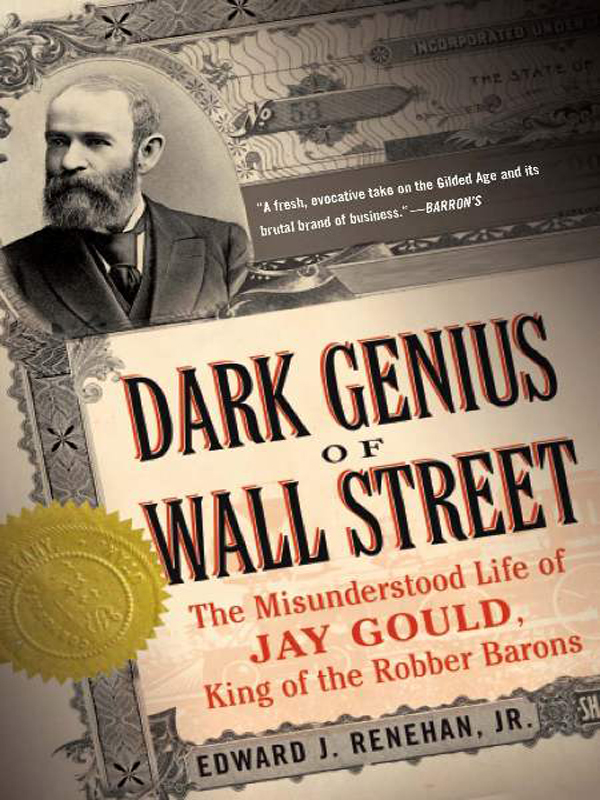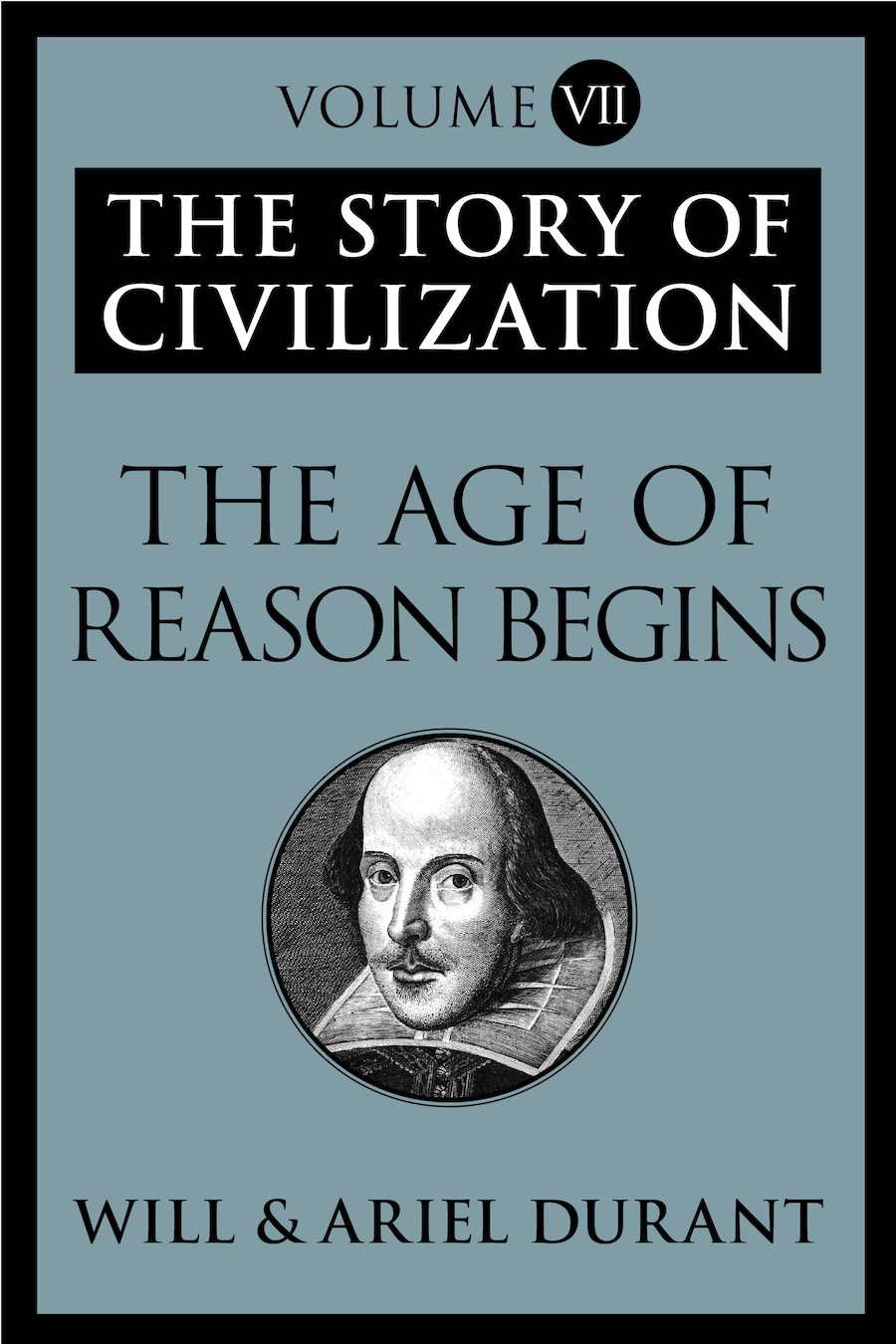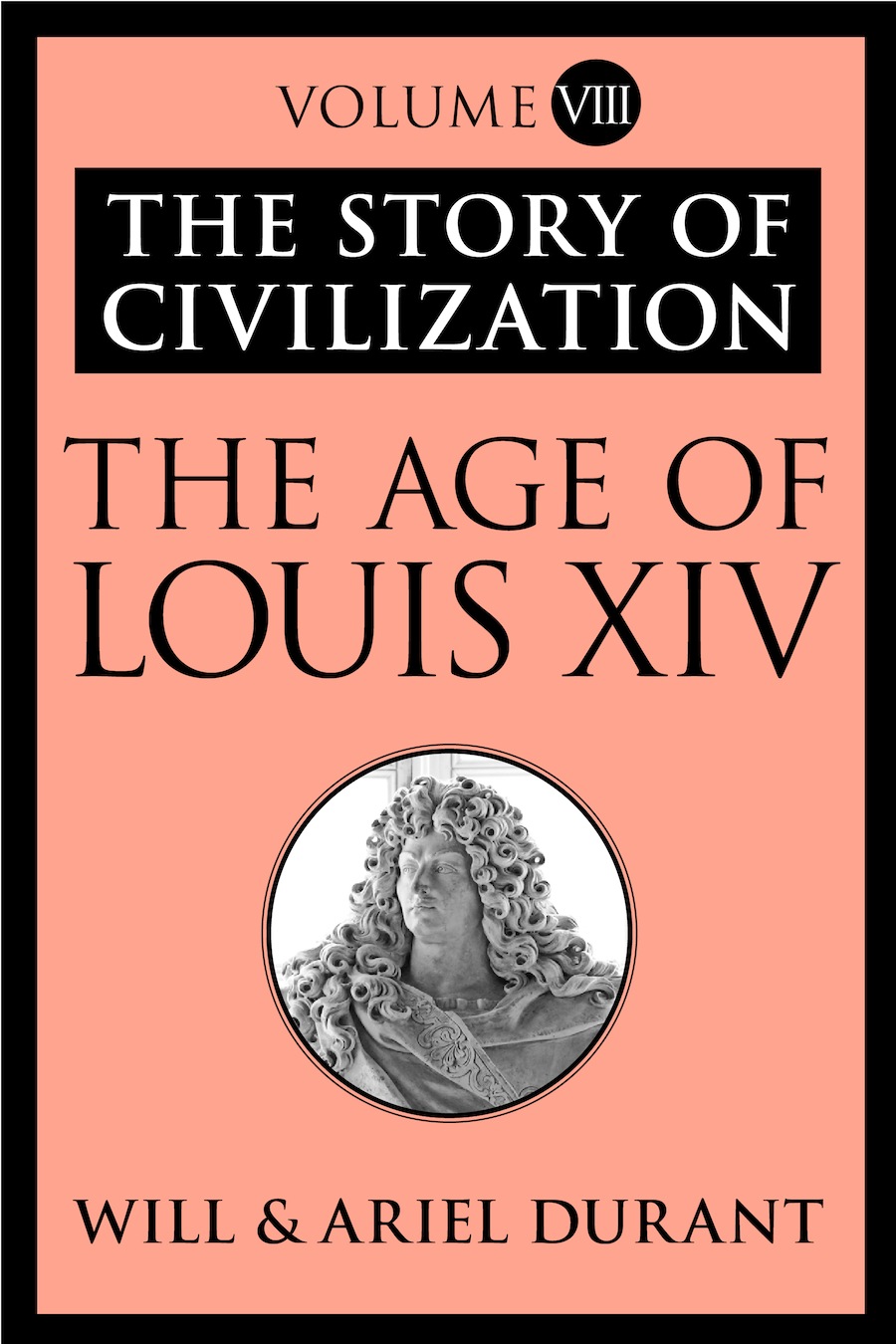завершает свое сочинение подтверждением христианской веры и пантеистическим воспеванием непознаваемого Бога73.73
После этого он скептически относился ко всему, всегда преклоняясь перед Церковью. «Que sais-je? Что я знаю?» стало его девизом, выгравированным на его печати и начертанным на потолке его библиотеки. Другие девизы украшали стропила: «За и против — оба возможны»; «Это может быть и не быть»; «Я ничего не определяю. Я ничего не постигаю; я приостанавливаю суждение; я исследую».74 Что-то из этой позиции он взял из «Удена ойды» Сократа, «Я ничего не знаю»; что-то из Пирра, что-то из Корнелия Агриппы, многое из Секста Эмпирика. Отныне, говорил он, «я держусь за то, что вижу и за что держусь, и не отхожу далеко от берега».75
Теперь ему везде мерещилась относительность, и нигде — абсолют. И меньше всего — в стандартах красоты; а наш похотливый философ упивается тем, что отмечает разнообразие мнений среди разных народов о том, что считать красотой женской груди.76 Он считает, что многие звери превосходят нас по красоте, и полагает, что мы поступили мудро, одев себя. Он считает, что религия человека и его нравственные представления обычно определяются его окружением. «Вкус добра или зла во многом зависит от того, какое мнение мы о них имеем», как говорил Шекспир; и: «Людей мучают мнения, которые они имеют о вещах, а не сами вещи».77 Законы совести исходят не от Бога, а от обычая. Совесть — это дискомфорт, который мы испытываем, нарушая нравы нашего племени.78
У Монтеня было больше здравого смысла, чем полагать, что, поскольку мораль относительна, ею можно пренебречь. Напротив, он был бы последним, кто нарушил бы их стабильность. Он смело рассуждает о сексе и требует большой свободы для мужчин; но когда вы подвергаете его перекрестному допросу, вы обнаруживаете, что он внезапно стал ортодоксом. Он рекомендует юношам целомудрие на том основании, что энергия, затрачиваемая на секс, берется из общего запаса сил в теле; он отмечает, что атлеты, тренирующиеся к Олимпийским играм, «воздерживались от всех венерических действий и прикосновений к женщинам».79
Его юмор заключался в том, чтобы распространить свой скептицизм на саму цивилизацию, и предвосхитить Руссо и Шатобриана. Индейцы, которых он видел в Руане, вдохновили его на чтение отчетов путешественников; на основе этих отчетов он написал свое эссе «О каннибалах». Поедание мертвецов, по его мнению, было меньшим варварством, чем мучение живых. «Я не нахожу в этом народе [индейцах Америки] ничего варварского или дикого, если только люди не называют варварством то, что не распространено среди них самих».80 Он представлял себе этих туземцев редко болеющими, почти всегда счастливыми и живущими мирно, без законов.81 Он восхвалял искусство ацтеков и дороги инков. Он вложил в уста своих руанских индейцев обвинение в богатстве и бедности европейцев: «Они заметили, что среди нас есть люди, набитые всевозможными товарами, и другие, умирающие от голода; и они удивлялись, что нуждающиеся могут терпеть такую несправедливость и не берут других за горло».82 Он сравнивал нравы индейцев с нравами их завоевателей и утверждал, что «притворные христиане… принесли заразу порока в невинные души, жаждущие учиться и по природе своей хорошо настроенные».83 На мгновение Монтень забыл о своей приветливости и вспыхнул благородным негодованием:
Столько прекрасных городов разграблено и разрушено, столько народов уничтожено или опустошено, столько миллионов безобидных людей всех полов, статусов и возрастов истреблено, разорено и предано мечу, а самая богатая, самая прекрасная, самая лучшая часть мира разграблена, разрушена и изуродована ради торговли жемчугом и перцем! О, механические победы, о, низменные завоевания!84
Было ли его преклонение перед религией искренним? Очевидно, что его классические путешествия давно отучили его от церковных доктрин. Он сохранил смутную веру в Бога, представляемого то в виде природы, то в виде космической души, непостижимого разума мира. Временами он предвосхищает шекспировского Лира: «Боги играют с нами в гандбол, подбрасывают нас то вверх, то вниз»;85 а атеизм он высмеивает как «неестественный и чудовищный».86 и отвергает агностицизм как еще один догматизм — откуда нам знать, что мы никогда не узнаем?87 Он отметает как претенциозную тщету все попытки дать определение души или объяснить ее связь с телом.88 Он готов принять бессмертие души на веру, но не находит для этого никаких доказательств ни в опыте, ни в разуме;89 и мысль о вечном существовании приводит его в ужас.90 «Кроме веры, я не верю чудесам»;91 и он предвосхищает знаменитый аргумент Юма: «Насколько более естественно и вероятно, что два человека солгут, чем то, что один человек за двенадцать часов будет перенесен ветром с востока на запад?».92 (Он опережает Вольтера, рассказывая о паломнике, который решил, что христианство должно быть божественным, чтобы сохраниться так долго, несмотря на разложение его администраторов.93 Он отмечает, что является христианином по географической случайности; в противном случае «я бы скорее присоединился к тем, кто поклонялся солнцу».94 Насколько читатель может вспомнить, он упоминает Христа всего один раз.95 Прекрасная сага о Матери Христа лишь в малой степени затронула его несентиментальную душу; однако он пересек Италию, чтобы возложить четыре вотивные фигурки к ее святыне в Лорето. Ему не хватало признаков религиозного духа — смирения, чувства греха, раскаяния и покаяния, стремления к божественному прощению и искупительной благодати. Он был вольнодумцем с аллергией на мученичество.
Он оставался католиком долгое время после того, как перестал быть христианином.96 Подобно благоразумному раннему христианину, мимолетно склонявшемуся перед языческим божеством, Монтень, самый языческий из христиан, время от времени отворачивался от избранных им греков и римлян, чтобы почтить крест Христа или даже поцеловать ногу папы. Он, как и Паскаль, переходил не от скептицизма к вере, а от скептицизма к соблюдению. И не просто через осторожность. Вероятно, он понимал, что его собственная философия, парализованная колебаниями, противоречиями и сомнениями, может быть роскошью только для духа, уже сформированного цивилизацией (религией?), и что Франция, даже купая свои верования в крови, никогда не променяет их на интеллектуальный лабиринт, в котором смерть будет единственной уверенностью. Он считал, что мудрая философия заключит мир с религией:
Простые умы, менее любознательные, менее образованные, становятся добрыми христианами, и благодаря благоговению и послушанию придерживаются своей простой веры и соблюдают законы. В интеллектах умеренной силы и способностей зарождается ошибка мнений….. Лучшие, наиболее оседлые и ясно видящие духи составляют другой род хорошо верующих, которые