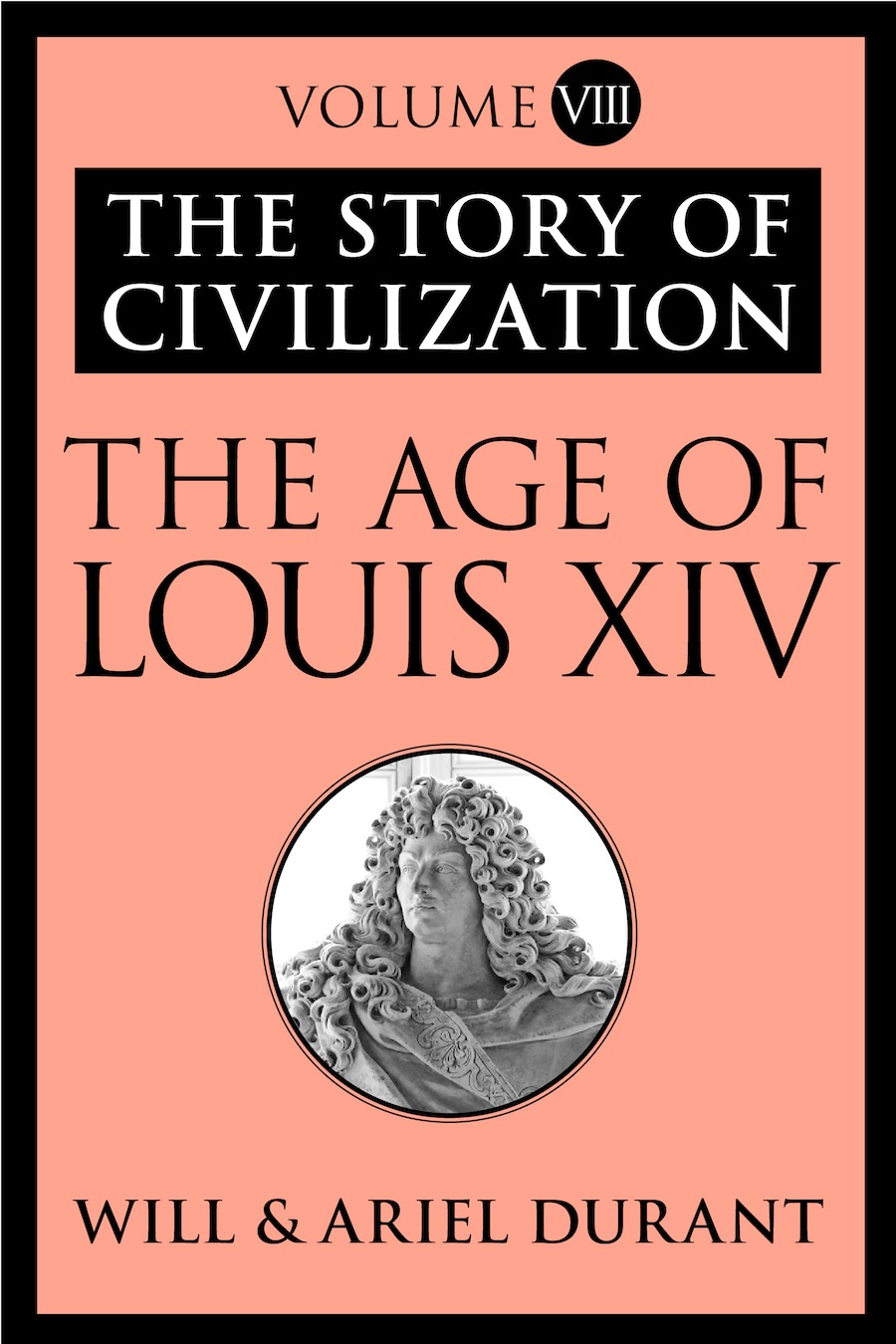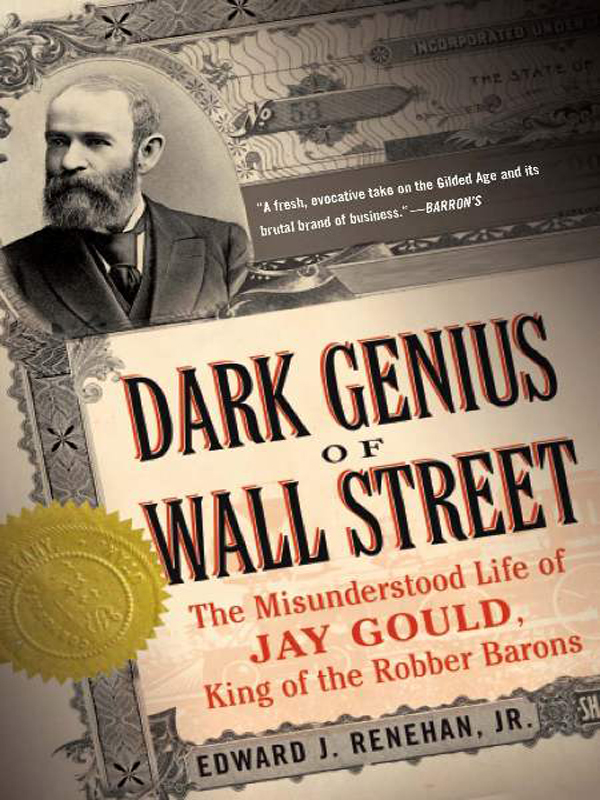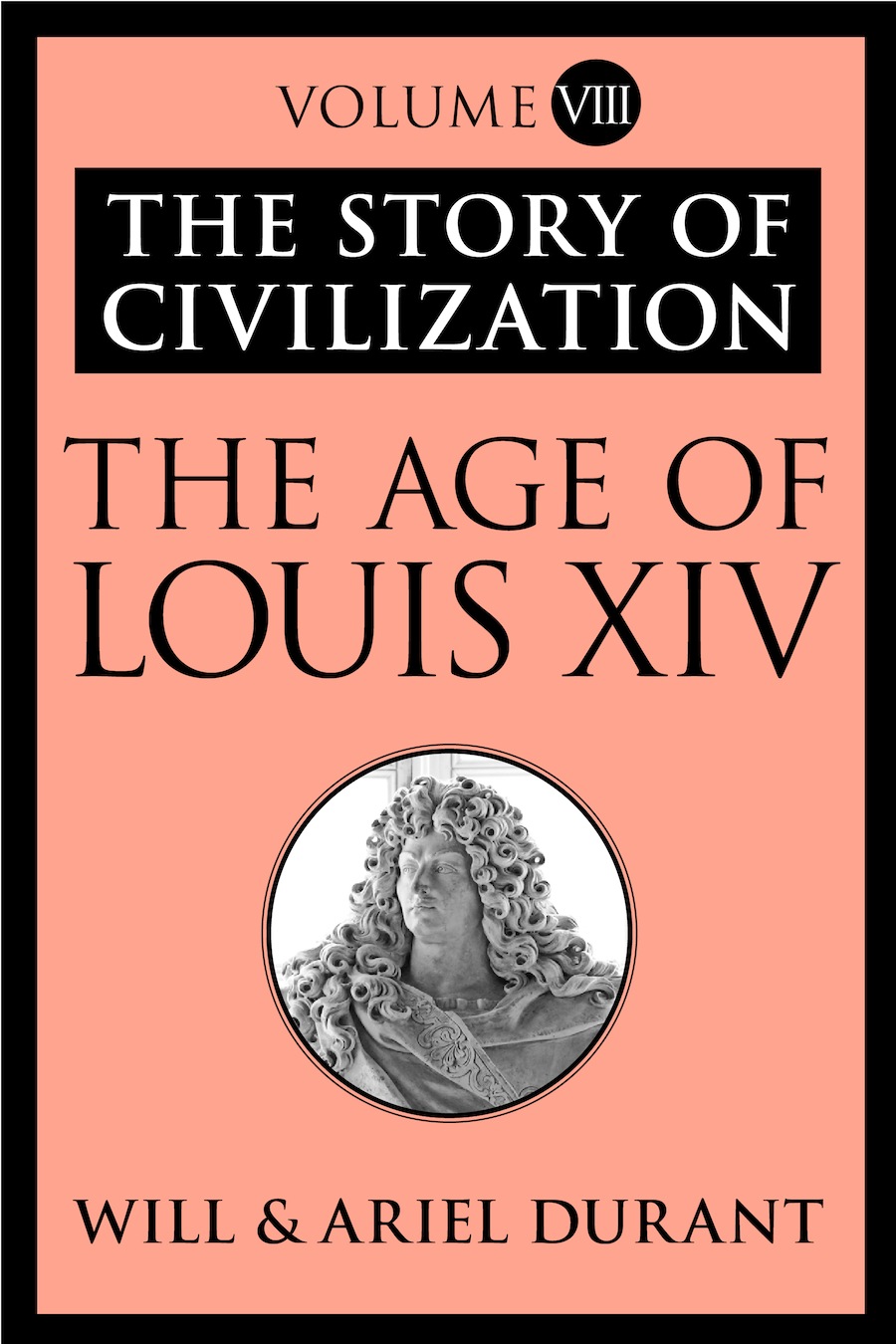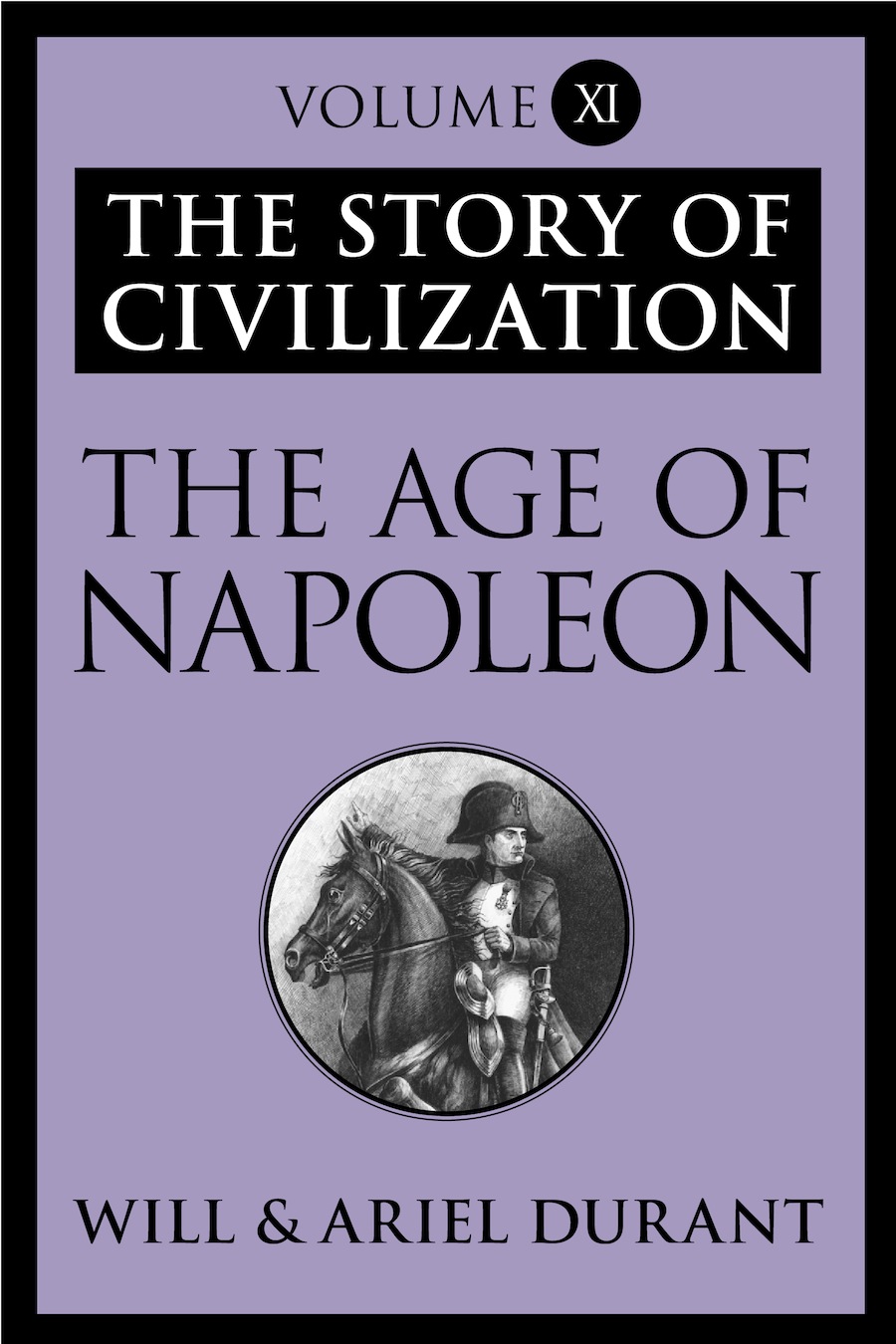жизни; его легкие были плохими, и он плевался кровью, если напрягался даже для игры в бильярд; но, экономно расходуя силы, избегая брака, умеряя страсти и предаваясь сну, он пережил всех своих современников и помнил Мольера, когда тот разговаривал с Вольтером.
Племянник Корнеля, он получил некоторый импульс к писательству. Он тоже мечтал о драмах, но в пьесах и операх, которые он сочинял, в его эклогах, любовных стихах и бержери не хватало страсти, и он умер от холода. Французская литература теряла искусство и обретала идеи, и Фонтенель нашел себя только тогда, когда открыл, что наука может быть более удивительным откровением, чем Апокалипсис, а философия — беспощадной битвой, превосходящей все войны. Не то чтобы он был воином: он был слишком добр для разборок, слишком мирским человеком, чтобы терять самообладание в спорах, и слишком осознавал относительность истины, чтобы привязывать свою мысль к абсолюту. И все же он «сеял зубы дракона». 48 Там, где он притворно беседовал со своей воображаемой маркизой, поднималась армия Просвещения с лихими легкими конями Вольтера, тяжелой пехотой д'Ольбаха, саперами «Энциклопедии» и артиллерией Дидро.
Его первой попыткой заняться философией стало пятнадцатистраничное эссе «Происхождение басен» (L'Origine des; fables), по сути, социологическое исследование происхождения богов. Вряд ли можно поверить его биографу, что оно было написано в возрасте двадцати трех лет, но благоразумно оставлено в рукописи до ослабления цензуры в 1724 году. Она почти полностью «современна» по духу, объясняя мифы не выдумкой священников, а первобытным воображением — прежде всего, готовностью простых умов персонифицировать процессы. Так, река текла, потому что бог изливал ее воды; все природные процессы были действиями божеств.
Люди видели множество чудес, которые были им не под силу: метать молнии, поднимать ветры и волны… Люди представляли себе существ более могущественных, чем они сами, способных производить эти эффекты. Эти высшие существа должны были иметь человеческий облик, ибо какой другой облик можно себе представить?. Поэтому боги были людьми, но наделены высшей силой. Первобытные люди не могли представить себе качества более восхитительного, чем физическая сила; они еще не представляли себе, не имели слов для мудрости и справедливости. 49
За полвека до Руссо Фонтенель отверг руссоистскую идеализацию дикаря; первобытные люди были глупы и варварски. Но, добавил он, «Все люди настолько похожи друг на друга, что нет расы, глупости которой не заставляли бы нас трепетать». 50 Он позаботился о том, чтобы добавить, что его натуралистическая интерпретация богов не относится к христианскому или иудейскому божеству.
Отложив это небольшое сочинение до более безопасных времен, Фонтенель взял листок и название у Лукиана и опубликовал в январе 1683 года маленькую книжку под названием «Диалоги умерших» (Dialogues des morts). Эти воображаемые беседы между умершими знаменитостями оказались настолько популярными, что в марте было подготовлено второе издание, а вскоре после этого — третье. Бейль восторженно хвалил ее в своих «Нувеллах». До конца года книга была переведена на итальянский и английский языки, и Фонтенель в свои двадцать шесть лет достиг европейской славы. Форма диалога была удобна в мире, кишащем цензорами; почти любая мысль могла быть высказана одним из собеседников, «опровергнута» другим и опровергнута автором. Однако Фонтенель был настроен скорее на юмор, чем на ересь; идеи, которые он обсуждал, были умеренными и не оставляли никаких поблажек. Так, Мило, атлет-вегетарианец из Кротоны, хвастается, что на Олимпийских играх нес на плечах вола; Сминдирид из соседнего Сибариса насмехается над ним, что он развивает мускулы за счет ума; но сибарит признает, что эпикурейская жизнь тоже тщетна, поскольку она притупляет удовольствие с частотой и умножает источники и степени боли. Гомер хвалит Эзопа за то, что он учит истине с помощью басен, но предупреждает его, что истина — последнее, чего желает человечество. «Дух человеческий чрезвычайно отзывчив на ложь…. Истина должна заимствовать образ ложного, чтобы быть приятно принятой человеческим разумом». 51 «Если бы, — говорит Фонтенель, — вся истина была у меня в руках, я бы поостерегся их открывать»; 52 Но, вероятно, это было бы сделано из сочувствия к человечеству, а также из безрассудной любви к погоне.
В самом восхитительном из «Диалогов» Монтень встречает Сократа, несомненно, в аду, и обсуждает с ним идею прогресса:
МОНТЕЙН. Это ты, божественный Сократ? Какое счастье видеть тебя! Я только что вошел в эти края и с тех пор искал тебя. Наконец, заполнив свою книгу твоим именем и похвалами, я могу поговорить с тобой.
СОКРАТ. Я счастлив видеть мертвеца, который, оказывается, был философом. Но раз уж ты так недавно приехал оттуда…..позвольте узнать новости. Как поживает мир? Не сильно ли он изменился?
МОНТЕЙН. Действительно, много. Вы не узнаете его.
СОКРАТ. Я рад это слышать. Я никогда не сомневался, что он должен стать лучше или мудрее, чем в мое время.
МОНТЕЙН. Что вы хотите сказать? Он безумен и развращен как никогда. Именно эту перемену я и хотел обсудить с вами; я ждал от вас рассказа об эпохе, в которой вы жили и в которой царила такая честность и справедливость.
СОКРАТ. А я, напротив, ждал, чтобы узнать о чудесах века, в котором вы только что жили. Что? Люди еще не исправили глупости древности?. Я надеялся, что все изменится к лучшему и люди извлекут пользу из опыта стольких лет.
МОНТЕЙН. А? Мужчины извлекают пользу из опыта? Они подобны птицам, которые раз за разом позволяют поймать себя в те же сети, в которые уже попались сто тысяч птиц того же вида. Все вступают в жизнь заново, и ошибки родителей передаются детям. Люди всех веков имеют одни и те же склонности, над которыми разум не властен. Поэтому везде, где есть люди, есть и глупости, даже одинаковые глупости.
СОКРАТ. Ты идеализировал античность, потому что был зол на свое собственное время. Когда мы были живы, мы почитали наших предков больше, чем они того заслуживали, а теперь наше потомство превозносит нас выше наших заслуг: но наши предки, мы сами и наше потомство совершенно равны….
МОНТЕЙН. Но разве не бывает так, что одни эпохи более добродетельны, а другие более порочны?