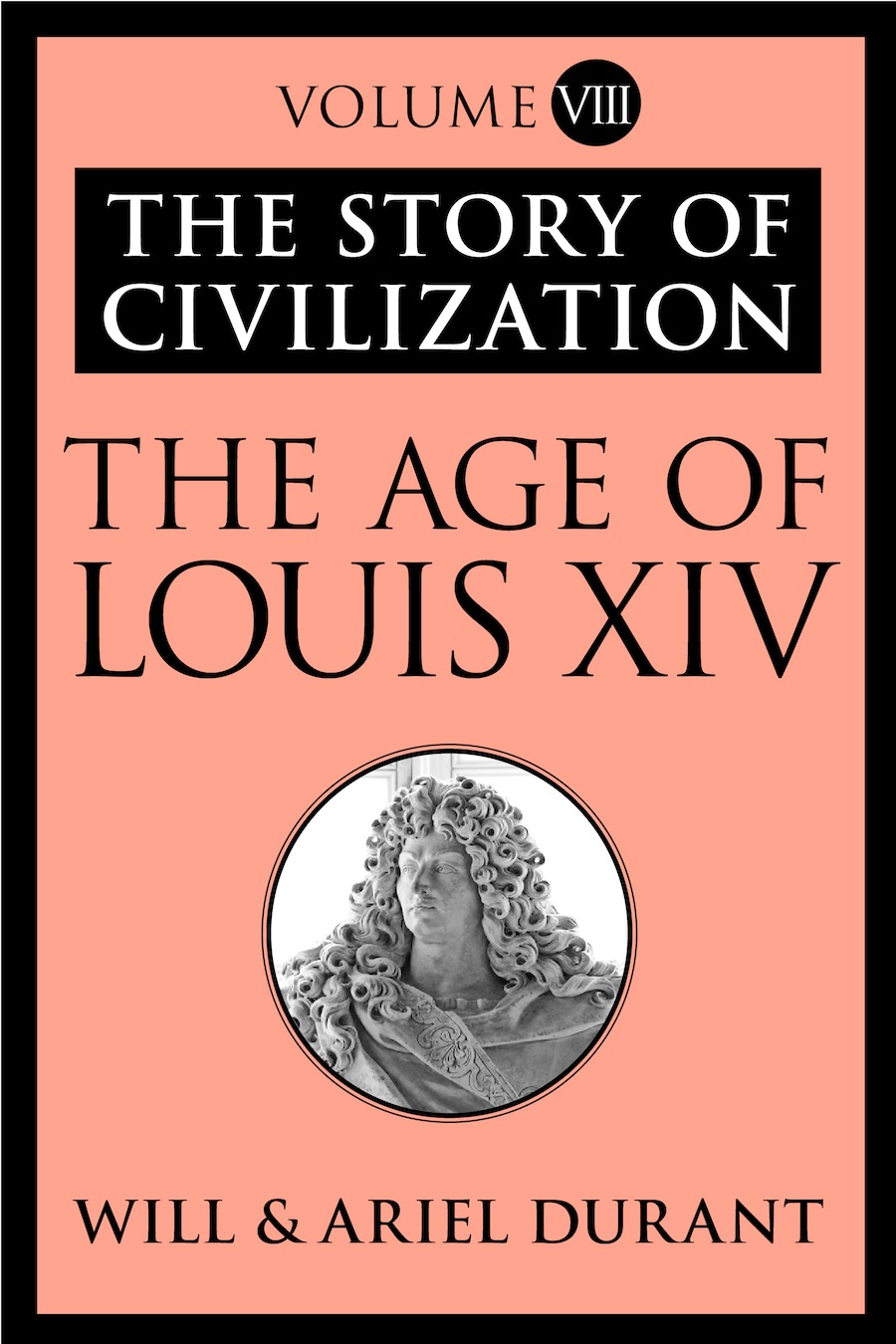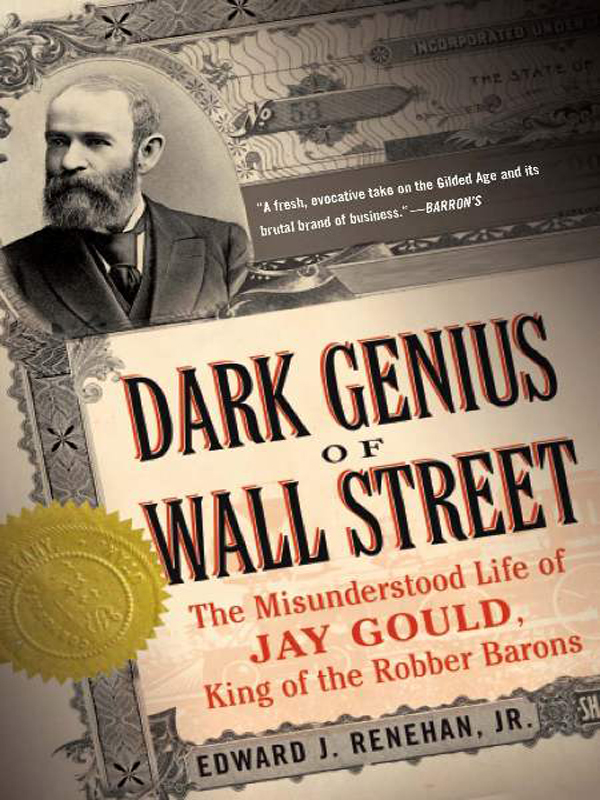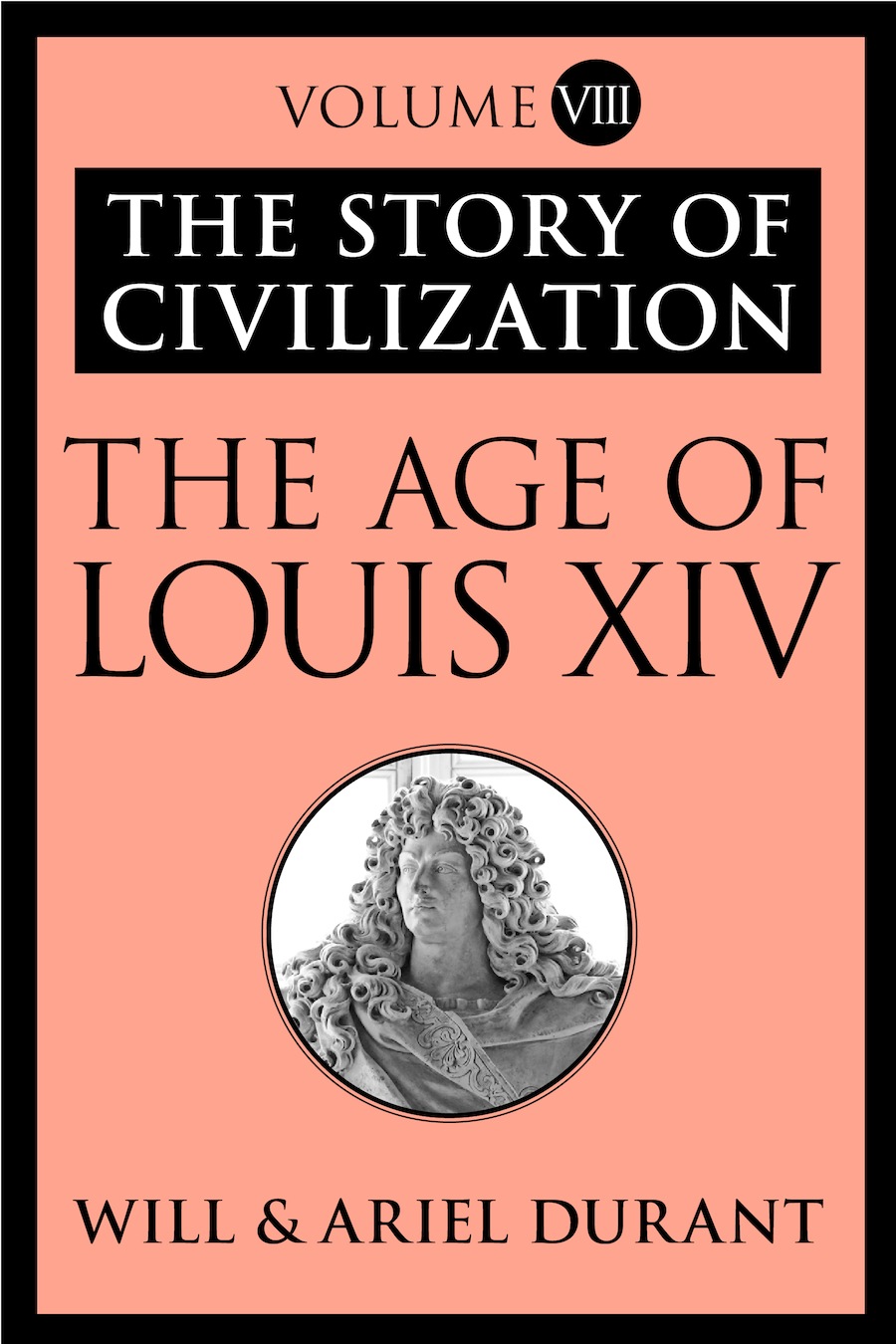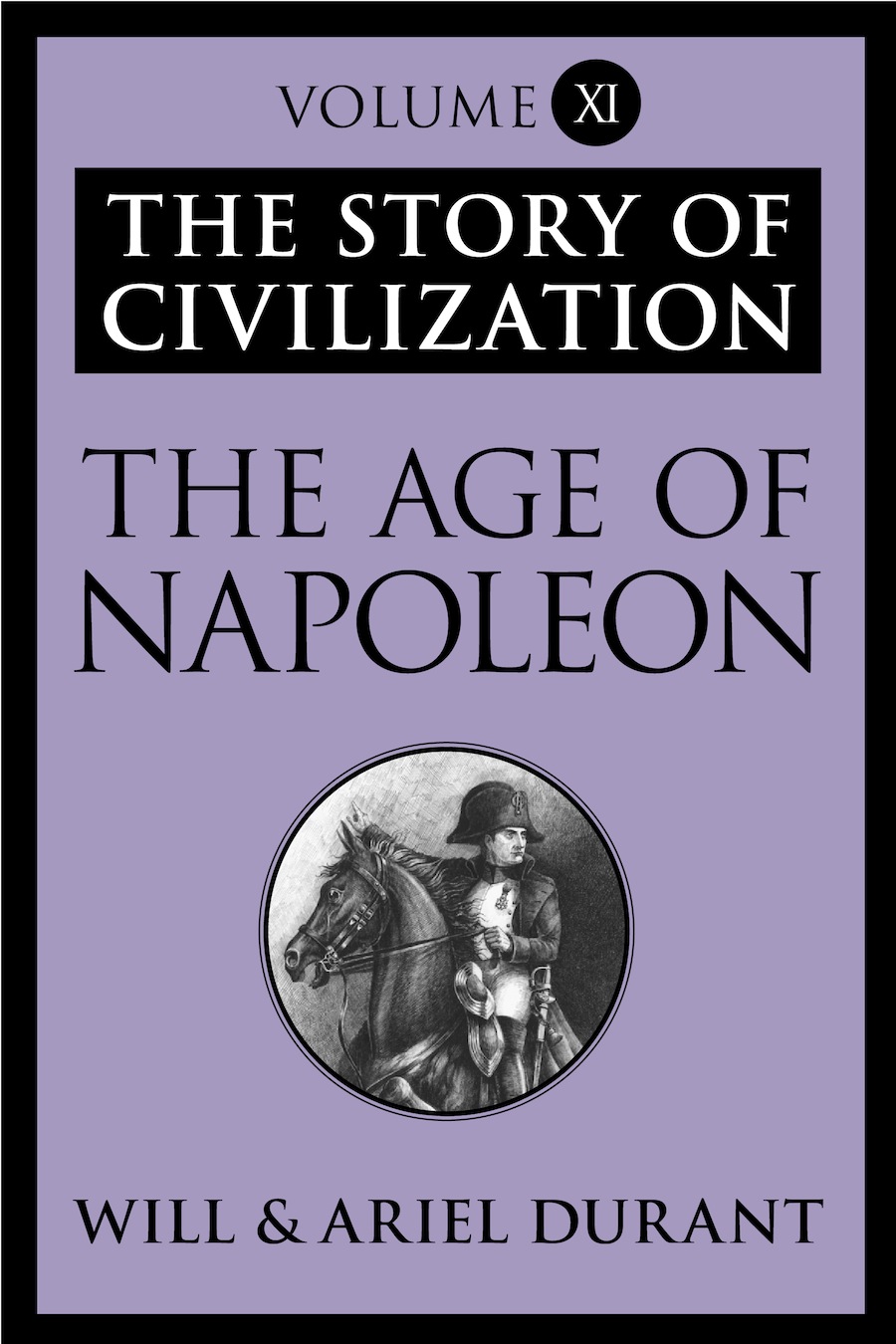СОКРАТ. Не обязательно. Одежда меняется, но это не значит, что меняется и фигура. Вежливость или грубость, знание или невежество… — это лишь внешняя сторона человека, и все это меняется; сердце же не меняется вовсе, а весь человек — в сердце. Среди огромного множества глупых людей, рождающихся за сто лет, природа может разбросать то тут, то там…..два или три десятка разумных людей». 53
Через несколько лет после этого пессимистического заключения Фонтенель занял несколько более оптимистическую позицию в «Отступлениях о древних и современных» (январь 1688 г.). В нем он провел полезное различие: в поэзии и искусстве не было заметного прогресса, поскольку они зависят от чувств и воображения, которые почти не меняются от поколения к поколению; но в науке и обучении, которые зависят от медленного накопления знаний, мы можем ожидать, что превзойдем древность. Каждый народ, полагал Фонтенель, проходит стадии, подобные индивидуальным: в младенчестве он посвящает себя удовлетворению своих физических потребностей; в юности к ним добавляются воображение, поэзия и искусство; в зрелости он может достичь науки и философии. 54 Фонтенель считал, что он видит, как истины растут благодаря постепенному устранению ошибочных взглядов. «Мы обязаны древним тем, что исчерпали почти все ложные теории, которые можно было создать», — а это значит забыть, что на каждую истину приходится неопределенное количество возможных ошибок. Он полагал, что Декарт нашел новый и лучший способ рассуждения — математический; теперь, надеялся он, наука будет развиваться скачками.
Когда мы видим, какого прогресса достигли науки за последние сто лет, несмотря на предрассудки, препятствия и малое число ученых, мы можем позволить себе слишком большие надежды на будущее. Мы увидим, как новые науки возникают из небытия, в то время как наши еще находятся в колыбели. 55
Так Фонтенель сформулировал теорию прогресса, le progrès des choses; как и Кондорсе столетием позже, он считал, что она не имеет предела в будущем; здесь уже была «неограниченная совершенная возможность человечества». Теперь идея прогресса была полностью запущена и проплыла через восемнадцатый век, чтобы стать одним из самых прекрасных проводников современной мысли.
Тем временем Фонтенель, чья блестящая фантазия постоянно натягивала поводок осторожности, приблизился к Бастилии. Около 1685 года он опубликовал краткую «Реляцию острова Борнео», воображаемое путешествие, настолько реалистично описанное (предвосхищая правдоподобие Дефо и Свифта), что Бейль напечатал его как реальную историю в своих «Нувеллах». Но конфликт, описанный в ней между Энегу и Мрео, был очевидной сатирой на теологические распри между Женевой и Римом. Когда французские власти разобрались в анаграммах, арест Фонтенеля казался неизбежным, ведь сценка появилась как раз на волне отмены Нантского эдикта. Он поспешил выпустить стихотворение, восхваляющее «триумф религии при Людовике Великом». Его извинения были приняты, и после этого Фонтенель позаботился о том, чтобы его философия была непонятна правительствам.
Он вернулся к науке и стал ее миссионером во французском обществе. Он слишком любил легкость, чтобы непосредственно заниматься экспериментами или исследованиями, но хорошо разбирался в науках и преподносил их своей растущей аудитории небольшими порциями, сдобренными литературным искусством. Для популяризации астрономии Коперника он написал книгу Entretiens sur la pluralité des mondes (1686) — «Беседы о множественности миров». Хотя с момента появления «De revolutionibus orbium coelestium» Коперника прошло 143 года, гелиоцентрическую теорию во Франции принимали очень немногие, даже среди выпускников колледжей. Галилей был осужден церковью (1633) за то, что принял гипотезу за факт, а Декарт не решился опубликовать свой трактат Le Monde, в котором точка зрения Коперника считалась само собой разумеющейся.
Фонтенель подошел к этой теме с обезоруживающей галантностью. Он представлял себя обсуждающим эту тему с прелестной маркизой; ее фигура — невидимая, но не лишенная чувств — маняще двигалась в течение всего разговора; ведь когда у красоты есть название, она может затмить звезды. Шесть «бесед» были soirs, «вечерами»; место действия — сад замка маркизы под Руаном. Цель заключалась в том, чтобы заставить жителей Франции — или, по крайней мере, дам салонов — понять вращение и революцию Земли, а также картезианскую теорию вихрей. В качестве дополнительной приманки Фонтенель поднял вопрос о том, обитаемы ли Луна и планеты. Он был склонен думать, что да; но, помня, что некоторых читателей может обеспокоить мысль о том, что в мире существуют мужчины и женщины, не происходящие от Адама и Евы, он благоразумно объяснил, что эти лунные или планетарные жители на самом деле не являются людьми. Однако он предположил, что у них могут быть другие органы чувств, возможно, более тонкие, чем у нас; если это так, то они будут видеть предметы иначе, чем мы, и тогда истина будет относительной? Это все расстроило бы, даже больше, чем Коперник. Фонтенель спас ситуацию, указав на красоту и порядок космоса, сравнив его с часами и выведя из космических механизмов божественного творца, обладающего высшим разумом.
Поскольку желание учить — один из самых сильных наших зудов, Фонтенель снова рискнул попасть в Бастилию, анонимно издав в декабре 1688 года самый смелый из своих маленьких трактатов — «Историю оракулов». Он признался, что взял материал из «De Oraculis» голландского ученого ван Даэля, но преобразил его ясностью и весельем своего стиля. «Il nous enjôle à la vérité», — сказал один из читателей, — «Он подталкивает нас к истине». Так он сравнивал математиков с любовниками: «Предоставьте математику самый незначительный принцип, и он выведет из него следствие, которое вы также должны ему предоставить, а из этого следствия — другое…» 56 Богословы принимали некоторые языческие оракулы за подлинные, но приписывали их случайную точность сатанинскому вдохновению; и они считали доказательством божественного происхождения Церкви то, что эти оракулы перестали действовать после пришествия Христа. Но Фонтенель показал, что они продолжали действовать вплоть до V века н. э. Он оправдал сатану как их deus ex machina; оракулы были уловками языческих жрецов, которые двигались в храмах, чтобы творить видимые чудеса или присваивать пищу, предложенную богам поклоняющимися. Он делал вид, что говорит только о языческих оракулах, и явно исключал из своего анализа христианские оракулы и жрецов. Это эссе и Origine des fables были не только тонкими ударами, нанесенными в целях просвещения; они стали примерами нового исторического подхода к теологическим вопросам — объяснить человеческие источники трансмундальных верований и тем самым натурализовать сверхъестественное.
Книга «История оракулов» стала последней из тех, что Фонтенель