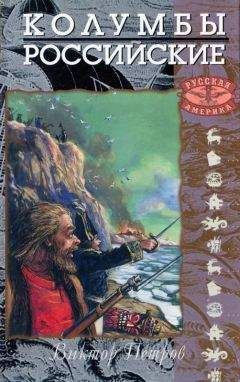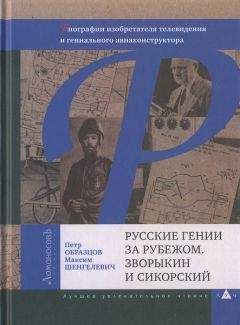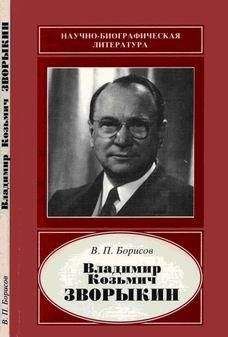Быстрее и быстрее играет оркестр, и все быстрее кружится Конча, и также ускоряет темп дробный стрекот ее каблуков. Танец наэлектризовал публику, и в такт барабанных переплетов красных каблуков раздалось хлопанье в ладоши, также ускорявшееся с темпом музыки.
Кто-то из экзальтированной молодежи не выдержал и завопил: «Ла фаворита… наша красавица Кончита!»…
А красные каблучки продолжают свой бешеный танец… пышные юбки взлетают выше, показывая изящные, тонкие щиколотки девушки… В изнеможении Конча наконец падает на стул.
Этим танцем был закончен бал, и гости стали разъезжаться, на прощание выпив по бокалу золотистого калифорнийского вина. Один Лангсдорф только посмаковал вино и оставил бокал недопитым. Вечером в своем дневнике, аккуратно описывая события дня и веселый бал, он тем не менее довольно кисло отозвался о качестве вина, заметив, что оно было «низкопробного» сорта!
…Было уже очень поздно, когда Резанов с офицерами и доктором вернулись на корабль. Усталые, подвыпившие офицеры сразу же ретировались в свои каюты. Резанов же не мог спать. Он сел в каюте за свой стол и стал вспоминать все события дня. Наконец, достал бумагу и начал писать письмо своему покровителю, графу Румянцеву. Писал он ему почти каждый день и, в сущности, это были не письма, а записи в дневник, которые он намеревался переслать Румянцеву по возвращении в Новоархангельск.
В каюту тихо вошел его камердинер Жан со свечой в руке.
— Не пора ли спать, барин! — пробормотал он, — ведь поздний час уже.
Резанов нетерпеливо махнул рукой и отослал его прочь.
«Милостивый государь, граф Николай Петрович», — он остановился, точно стараясь собраться с мыслями. Казалось бы, так много нужно написать, и в то же время писать было нечего — в сущности, ничего еще не сделано. На его письмо, посланное губернатору в Монтерей в день приезда, ответа он не получил. Нечего было писать, кроме того, что у него появился союзник… молодая девушка, которой не было еще и шестнадцати лет… «Большое достижение», — усмехнулся он.
Мысли не связывались… а в голове все время переплетаются воспоминания о музыке, о задорном, кокетливом смехе Кончи… Он закрыл глаза, и ему вдруг ясно явилась картина последнего зажигательного танца Кончи, и он увидел прямо перед собой, на столе, ее красные, дробно пристукивающие каблучки. Он не мог глаз отвести от этих маленьких красных туфелек… Потом видение исчезло, и он увидел глубокие темно-синие насмешливые глаза, опушенные густыми черными ресницами, увидел ее полные ярко-красные губы… Он вдруг почувствовал, как кровь бросилась ему в голову, и он захотел, страстно захотел прильнуть губами к этим пухлым красным губам, захотел обнять ее тело, прикоснуться к нему, осыпать ее поцелуями.
Дверь позади тихо заскрипела. Верный Жан опять появился в дверях. Он знал, что Резанов еще не совсем оправился от всего, что испытал во время путешествия, знал, что ему нужен сон…
И опять Резанов отослал его прочь:
— Иди, ложись спать, Жан, я сам лягу, не жди меня!
«Милостивый государь, граф Николай Петрович!» Он вдруг решил, что нужно как-то объяснить своему покровителю, что время не было потеряно, что он приобрел союзника и что это совсем не было его увлечением молоденькой девушкой, а скорее политическим шагом для пользы дела… Знал, что если будет так писать, то покривит душой, но тем не менее обмакнул перо в чернила и быстро застрочил:
«Ежедневно куртизируя гишпанскую красавицу, приметил я предприимчивый характер ея, честолюбие неограниченное, которое при пятнадцати летнем ея возрасте уже только одной ей из всего семейства делало отчизну ея неприятною. Всегда в шутках отзывалась она об ней, "прекрасная земля, теплой климат, хлеба и скота много и больше ничего"».
Описывая первые дни пребывания в Сан-Франциско, писал Резанов:
«… проводили мы всякой день в доме гостеприимных Аргуелло и довольно коротко ознакомились. Из прекрасных сестер коменданта, Донна Консепсия слывет красотою Калифорнии».
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ: СБЛИЖЕНИЕ
Прошло три дня. Утром 2 апреля в каюту Резанова постучали. Это был лейтенант Хвостов.
— На берегу дон Луис, Николай Петрович. Сигнализирует, просит разрешения явиться на борт.
— Ага, — обрадовался Резанов, — вероятно, получены новости из Монтерея… Пошлите, пожалуйста, шлюпку за ним!
Резанов вышел на палубу встретить молодого коменданта. Дон Луис ловко поднялся по трапу и отдал честь Резанову.
— Срочная депеша для вашего превосходительства из Монтерея, — отрапортовал он, передавая камергеру большой пакет. Резанов быстро вскрыл его — что-то пишет ему губернатор?
В письме, написанном по-французски, губернатор Ариллага писал, что он даже не может помыслить, чтобы чрезвычайный посол русского императора подвергался тягостям пути в Монтерей. Он почтет за честь самому прибыть в Сан-Франциско и лично приветствовать высокого гостя президио Святого Франциска, посему выезжает из Монтерея немедленно.
Настроение Резанова поднялось. По крайней мере тон письма был весьма любезным и, самое главное, в письме не было отказа… Резанов, однако, сразу же понял, что губернатор не хочет, чтобы посол совершил путешествие в Монтерей не потому, что он беспокоился о его комфорте, а просто не хотел, чтобы Резанов произвел рекогносцировку по территории, закрытой для иностранцев. Главное, Ариллага не хотел, чтобы Резанов знал о состоянии военной подготовки и распределении воинских сил. Вернее, он не хотел показать Резанову состояние полной военной неподготовленности испанцев.
Тем не менее Резанов счел эти новости хорошими.
— Очень рад слышать, дорогой дон Луис, что его превосходительство губернатор Ариллага прибудет сюда через несколько дней… А пока пользуясь вашим присутствием, я покажу вам документы, удостоверяющие мое официальное положение и мою миссию. Прошу, — указал он на свою каюту.
Дон Луис не особенно внимательно просмотрел бумаги. Ему, видно, было неудобно, — точно этим оказывалось недоверие Резанову. Взглянув поверхностно на документы, он почтительно вернул их Резанову, который предложил показать ему корабль. Чистота и порядок на корабле необычайно поразили испанца.
— Я просто не верю своим глазам, — сказал он Резанову, — мне не верится, что ваш корабль совершил такой тяжелый путь. Все так чисто, на месте, все аккуратно прибрано.
Резанов довольно улыбнулся:
— Ничего удивительного в этом нет, дон Луис. Не забывайте, что оба офицера корабля — из военного морского флота. Порядки и дисциплина у нас флотские… Ничего не запускается, и, конечно, чистота поддерживается, приличествующая военному судну.
После отъезда дона Луиса Резанов удалился к себе в каюту поработать над бумагами. Каждый день, хотя бы час или два, он сидел над своими проектами. Видно, таков был его характер, что он должен был что-то делать, искать что-то новое, разрабатывать новые планы. Даже здесь, в Калифорнии, он продолжал работать над составлением грамматики и словаря японского языка, и в то же время довольно сильно преуспел над подобным же словарем алеутского языка.
Через некоторое время вновь раздался осторожный стук в дверь. Это опять был Хвостов.
— Извините, Николай Петрович, но я должен доложить вам кое-что.
Резанов заметил беспокойство в его голосе.
— Произошло что-то неприятное? Может быть, наш медик пристает к вам со своими претензиями? — спросил он саркастически.
— Нет, по такому поводу я бы не стал отвлекать вас от работы. Меня тревожит другое, более серьезное, — настроение команды. Сегодня утром пять матросов заявили, что хотят списаться с корабля и остаться в Калифорнии, не желают идти обратно в Новоархангельск.
— Что за бессмыслица! С каких это пор русский человек не хочет возвращаться домой, на родину! Я думаю, что вам не доставит большого труда переубедить их, Николай Александрович! Вы флотский офицер и знаете флотские порядки, знаете, как поддерживать дисциплину. Немного порки да карцер быстро прочистят им мозги!
— Беда в том, что не русские это матросы, а те пять пруссаков из Бостона, которых нам всучил Вульф. Заявляют, что они вольные матросы, а не рабы, поступили по вольному найму и желают списаться здесь, чтобы вернуться на родину сухопутным образом.
— Ну и головы сложат… индейцы с ними церемониться не будут. Не слыхивал я, чтоб кто-либо когда пересек этот континент сухим путем…
— Главное, что меня беспокоит, Николай Петрович, это то, что команда у нас на корабле и так недостаточная, а лишимся пятерых матросов, так нам и с парусами не управиться, останемся здесь на мели на милость гишпанцев! Если б было довольно своих моряков, то Бог с ними, с бостонцами, — одно беспокойство от них только… работники никудышные, ленивые, только жрать мастаки, да и то придираются, наша русская матросская пища им не нравится. Но не можем мы, никак не можем потерять пять человек. Мы и так с мичманом держим ухо востро, приглядываем и за своими матросиками… заметил я и у них новый дух, отъелись здесь на добрых хлебах за эти несколько дней, набили брюхо… говорят, все им здесь нравится, и воздух теплый, климат благодатный и жратвы вдоволь, да и жизнь привольная, не чета угрюмому Северу. Чувствую, начинается брожение… все может случиться… Как здесь ни хорошо, но хотел бы я поднять паруса да поскорее в обратный путь! Главные бунтари, бостонские пруссаки, видимо, подговаривают их…