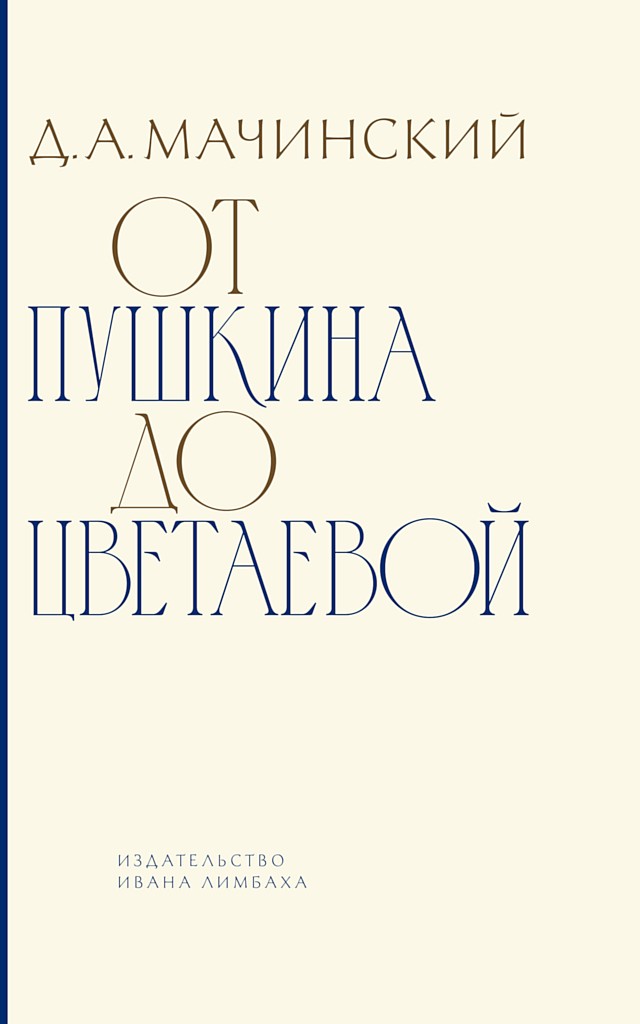что противники достойны друг друга и оба укоренены в недрах российской традиции личностности и государственности. Более того, потомок варяжского воеводы Евгений (если принять мою цепь ассоциаций) на берегу «варяжских волн» Невы и Ладоги в известном смысле не менее законный наследник этой земли и ее судьбы, чем сам Петр. Но из окончательного варианта поэмы Пушкин убирает и варяжские волны, и варяжскую родословную, оставляя лишь намек на нее… И Евгений выходит против каменно-бронзового колосса во всей своей униженности и безоружности… в чем и состоит его сила. Более того, помещенный в самый низ табели о рангах, не помня своих предков, он, оставаясь формально дворянином, уже сам становится если не предком, то предтечей тех петербургских разночинцев, которые заселят его и другие каморки и реализуют его неопределенно- и жалко-грозное «Ужо тебе!». Оговорюсь: я не думаю, что все прослеженные ассоциативные цепочки Пушкин выстроил сознательно. Но ничего случайного здесь также нет: область подсознательного у гения безмерна!
В написанных выше страницах я отчасти обнажил «кухню» своих изысканий. В дальнейшем я буду более краток и ограничусь выводами, избегая многочисленных цитат и не выявляя все ассоциативные цепочки.
Петр уже во вступлении в поэму — больше, чем человек, чем историческая личность. Он отчасти божество, божество языческого масштаба, хотя в рассказе о «сотворении Петербурга» просвечивает и библейский рассказ о сотворении мира. Единственный курсив в поэме — это «он» (вместо «Петр») в первой фразе поэмы: создается впечатление, что Пушкин, если бы это не было кощунственно, выделил бы это безличное «он» не курсивом, а написанием с заглавной буквы. Вода, топь, туман — сплошное господство воды в первой строфе вступления — и «он». «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою» (Быт 1, 2). И далее происходит творение — мыслью, логосом, мыслесловом: «И сказал Бог» (Быт 1, 3); «И думал он» («Медный всадник»).
Но все же творение в поэме происходит не из ничего, да и сам творец послушен, по меньшей мере природе («природой здесь нам суждено»), да и задача у него все же частная — окно в Европу. И мы снова возвращаемся на землю, вспоминаем, что это — царь Петр, хотя ощущение его языческой богоподобности, некоего родства с тем «русским богом», которому Пушкин готов приписать победу в войне 1812 года в сохранившихся строфах X главы «Онегина», — остается. Но есть у этого то ли царя-творца, то ли языческого «русского бога», то ли у царя-человекоорудия и уязвимое место: творит он назло «надменному соседу»; и это — не обмолвка. Нечто недоброе присутствует в акте величественного творения — изначально.
Все отмеченные черты и уровни мифической по природе и мифологизированной историей личности Петра монументализируются и рельефно выявляются, когда он вновь возникает в поэме в образе своего памятника. Вообще не нужно требовать от поэмы полной стыковки образов Петра, Петербурга, России во вступлении и в основном тексте. Все же вступление, как я пытался показать, это в какой-то мере и замаскированное отмежевывание от позиции Мицкевича, и вообще «прикрытие» поэмы перед цензурой: Пушкину очень нужны были деньги, и он хотел печатать поэму немедленно.
И конечно, заклятие вступления: «Красуйся, град Петров, и стой / Неколебимо, как Россия», — не слишком исполняется в основном тексте: «град Петров» отнюдь не «красуется», а Россия в лице Невы, Медного всадника и Евгения приходит в бурное движение…
Чего нет ни в образе собственно памятника Петру, ни в просматривающемся за ним образе самого Петра — это даже намека на то, что это памятник христианскому государю христианской страны. Скорее уж какая-то тень христианского милосердия и христианского чувства «Божьей кары» просматривается в образе Александра I на балконе дворца во время наводнения. Весь Петр дан в языческих, отчасти ветхозаветных и, возможно, апокалипсических ассоциациях.
Корни глухой языческой древности в образе Медного всадника отчетливо ощутил на ином витке российской истории Александр Блок. В стихотворении «Поединок» Блоком описывается привидевшийся ему поединок между Петром — Медным всадником и покровителем Москвы Георгием Победоносцем, данным в подчеркнуто христианском, не частом у Блока ключе: «Ясный, Кроткий, Златолатный, / Кем возвысилась Москва!» Далее следует:
Светлый Муж ударил Деда!
Белый — черного коня!..
[Блок, т. 2: 101]
Каким образом Петр оказывается «дедом» по отношению к святому Георгию, который отчетливо ассоциируется с христианским и, особенно, московским периодом русской истории? Это возможно лишь в случае, если Блок провидит в Петре — Медном всаднике его языческую, дохристианскую надоснову, восходящую к русскому государственному язычеству IX — Х веков [9].
Кроме того, святой Георгий в первую очередь — змееборец, а посему образный строй стихотворения приводит к мысли о «змеиной природе» Медного всадника, столь отчетливо и даже навязчиво выявляемой Блоком в других стихотворениях этих же лет, о том, что враждебность змеи и всадника — лишь видимость, что по существу они неразрывно связаны, и в этой тройственной связке главный — змей.
Поэтическое прозрение Блока несомненно соответствует истине, и корни той российской государственности, которая как бы заново создавалась Петром, уходят в языческий период, к Олегу Вещему, который был похоронен в первой российской столице, так же как Петр — в последней. Эту геософско-метафизическую связь двух знаковых личностей русской истории особо, быть может почти неосознанно, чувствовал Пушкин, давший ряд ее образных «знаков».
В основном тексте пушкинской поэмы двуединство Петра и его памятника обозначается семью определениями-образами. Несомненно, именно к памятнику относится трижды повторенный «кумир», и после этого, как бы резюмируя и усиливая этот образ требующего поклонения безжалостного величия, Пушкин именует памятник «горделивым истуканом».
И к памятнику, и к Петру обращено словосочетание, которым единственный раз впрямую именует их Евгений: «строитель чудотворный». Этот образ соотносит единство Петра и монумента как бы только с сотворенным им городом, но поскольку творение города уподоблено творению мира, да и в городе этом в поэме разыгрывается мистерия мирового масштаба, то данный образ не так далек от образа вообще демиурга, вообще творца.
Затем — «грозный царь». Здесь целый клубок ассоциаций — от Иоанна Грозного как совершенного образа того «страха государева», при помощи коего Петр и созидал империю и город, до грозы и грома как атрибута и оружия верховного языческого божества, например Перуна. Образ реализуется тут же: «грома грохотанье — тяжело-звонкое скаканье»; впрочем, этот языческий гром присутствует в монументе изначально — от «Гром-камня».
Некоторым литературно-публицистическим штампом может повеять от «державца полумира». Но у Пушкина даже взятые им напрокат штампы обретают новую напряженную жизнь, особенно в поле этой поэмы, напоенной всеми силами недр и поверхности земли и обращенной —