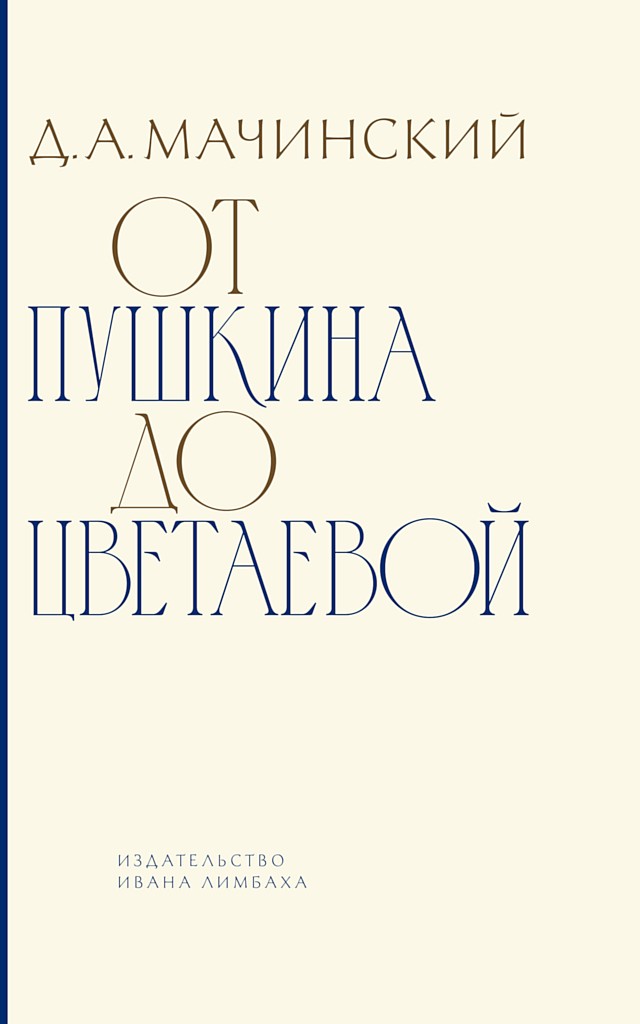к небу. И, принимая во внимание сильную развитость у Пушкина географо-исторического, я бы сказал — геософского чувства, отмечу, что этим в контексте поэмы проходным образом послепетровская Россия неявно трактуется как половина всечеловеческой цивилизации, равная некой неназванной другой ее половине.
Неизмеримо грандиознее всех предыдущих образ-определение «мощный властелин судьбы». Рассмотрение его требует столь всеохватного подхода, что я отложу его на конец.
И лишь немногим менее грандиозное, последнее по тексту поэмы, седьмое, как бы резюмирующее все предыдущие, определение: «Всадник Медный» — где «Всадник» дважды написан с заглавной буквы. Памятник Петру, пока он стоял неподвижно, был всего лишь кумиром и истуканом, а «Всадником Медным» с большой буквы он стал, только когда пришел в движение и, свершая кару, устремился за безумцем, обнаружив свою истинную суть. И «Всадник Медный» невольно ассоциируется с всадниками Апокалипсиса, по созвучию более всего с «всадником бледным». («Конь бледный, а на нем всадник, которому имя „смерть“»). Он превращается в образ карающего орудия — чего? или кого? — вот главный и уводящий высоко и далеко вопрос, — но орудия недоброго и своим действием выдающего некую уязвленность той слепой (?) или всевидящей (или слеповсевидящей) силы, которая чуется за ним.
И всему этому противостоит «бедный мой Евгений». Правда, кое-что стоящее за ним мы уже знаем… Остановимся на обычно недооцениваемой замаскированной близости Евгения к Пушкину, на тайном сродстве героя и автора. Евгений, несомненно, ничтожен — в начале поэмы. Но вспомним, что Пушкин со знанием дела говорил о поэте (то есть о себе) до «священной жертвы» поэзии: «быть может, всех ничтожней он». Как показано выше, Пушкин колебался на подступах к поэме, не сделать ли героя «сочинителем». И родимое пятно этого осталось: каморку Евгения после начала его страннического безумия хозяин сдал «бедному поэту». Пушкин одним штрихом обозначает зыбкую грань между бедным чиновником и бедным поэтом, намекая, что героем происшествия вполне мог быть и поэт.
И при этом «бедный Евгений» — апостол Любви. Он весь — в мечтах о браке, в нем живет своего рода религия брака, — и в этом он тоже сродни Пушкину 1830-х годов. Но помимо брака — он способен безумно любить, и в этой любви фигура его вырастает… до евангельских размеров. «Ах, он любил, как в наши лета уже не любят; как одна безумная душа поэта еще любить осуждена». Евгений любил сильнее, самозабвеннее Ленского, своей потенциально «безумной» душой он любил сильнее, чем любил поэт. И в этом он сродни Пушкину, с его даром любви к женщине, к Красоте-Любви в конкретном воплощении.
Но родственность обнаруживается и в третьем — в самом безумии Евгения. О, тема безумия близка Пушкину. Я уже напоминал, что в высоко ценимом им самим «Борисе Годунове» он отождествлял себя более всего с юродивым, совестью драмы, бросающим упрек преступной власти, царю, запятнанному убийством царевича (почти как Петр). Необходимо отметить то напряженное сопереживание, то знание изнутри движений безумной души, которые обнаружил Пушкин в описании сумасшествия Евгения. В том же 1833 году и, судя по всему, во временном соседстве с поэмой создается гениальное «Не дай мне Бог сойти с ума…», где Пушкин раскрывает нам все дикое очарование таинственно и глубоко известного ему состояния безумия. При этом поэт весьма не прочь покинуть свой ограничивающий разум ради свободы безумия, но боится лишь одного — что общество расправится с ним, засадив его в сумасшедший дом. (К слову, Евгения до самой смерти он оставляет на свободе; Евгений, милостью Пушкина, как бы в нем исполняющего свою мечту о свободном, странническом сумасшествии, — счастливый безумец!) Но не очевидно ли невероятное сходство описаний состояния поэтического вдохновения в «Поэте» и состояния свободного безумия в «Не дай мне Бог…». Оба, и поэт, и безумец, сразу бросаются в леса и к волнам, оба живут лишь своей душой, оба исполнены сознания силы — перечтите, убедитесь… Те, кому удавалось подсмотреть Пушкина в моменты творчества, описывают его гримасы, ужимки и метания, так что если бы не знать, что это творит великий поэт, нужно было бы спешно звать врача…
Безумие Евгения — сродни поэтическому безумию Пушкина, и оба заплатили за свое безумие жизнью.
И именно при воссоздании в поэме состояний самозабвенной любви и самозабвенного безумия Евгения возникают строфы, где уже неразличим голос героя и автора. По логике повествования — это мысли Евгения, но не может же так мыслить ничтожный чиновник! Вместе с тем критика уже давно видит (и основательно) в этих строфах мыслеобразы автора. Разгадка проста: мыслит не ничтожный чиновник, а проснувшийся в нем апостол Любви и безумный ясновидец — то есть Пушкин на вершинах своей души.
И на этом уровне Евгений перерастает Петра даже в плане скульптурного и монументального воплощения в нашем сознании. В поэме возникают два всадника, но если Петр всего лишь на коне, то «бедный Евгений» на льве, и неподвижно мчится этот львиный всадник по волнам Невы вдогонку за медным. Однажды постигнув это, я позднее прочел на эту тему прекрасную статью Евгения Иванова [10], друга Блока, истинного глубокого христианина, убежденно отождествлявшего себя с «бедным Евгением». Мне не написать так, как он. Евгений Иванов, опираясь на пушкинский образ «ужасно бледного» Евгения на льве, называет его «Всадником Бледным», противостоящим «Всаднику Медному». Я бы не стал настаивать на этом именовании, уводящем к Апокалипсису, так как карающая функция в образе Евгения — не основная, как увидим далее.
Важнее другое: ничтожный Евгений — на царственном льве; это обнажение внутренней сути и внутреннего размера образа, как у Достоевского: Лев… Мышкин, идиот и… князь (князь не от мира сего). Лев Мышкин, несомненно, христоподобен; а Евгений, «руки сжав крестом» (от ветра, конечно, но не только ведь от ветра!), забывший о грозящей ему смертельной опасности, весь устремленный туда, где гибнет его любовь, «там оне, / Вдова и дочь, его Параша, / Его мечта…» — да, именно так, первой он внутренне назвал мать, вдову — в этом кульминационном месте поэмы ничто не случайно — Евгений здесь напрямую все же не христоподобен, но и невольно сотворенный им знак креста, и самозабвенные любовь и мука… Этот Евгений на этом льве теперь сидит всегда.
И тут возникает главное противостояние поэмы. Ради того, чтобы выявить его, Пушкин даже перенес местожительство вдовы и дочери из Коломны (как это было в «Домике в Коломне» и в черновиках «Езерского») на другой берег Невы, к заливу, видимо, на Васильевский остров. Евгений отделен от них непреодолимым препятствием — разлившейся Невой. Прямо на линии его взгляда оказывается памятник Петру, чего не было бы, если бы Параша жила в Коломне.
Да в Коломне,