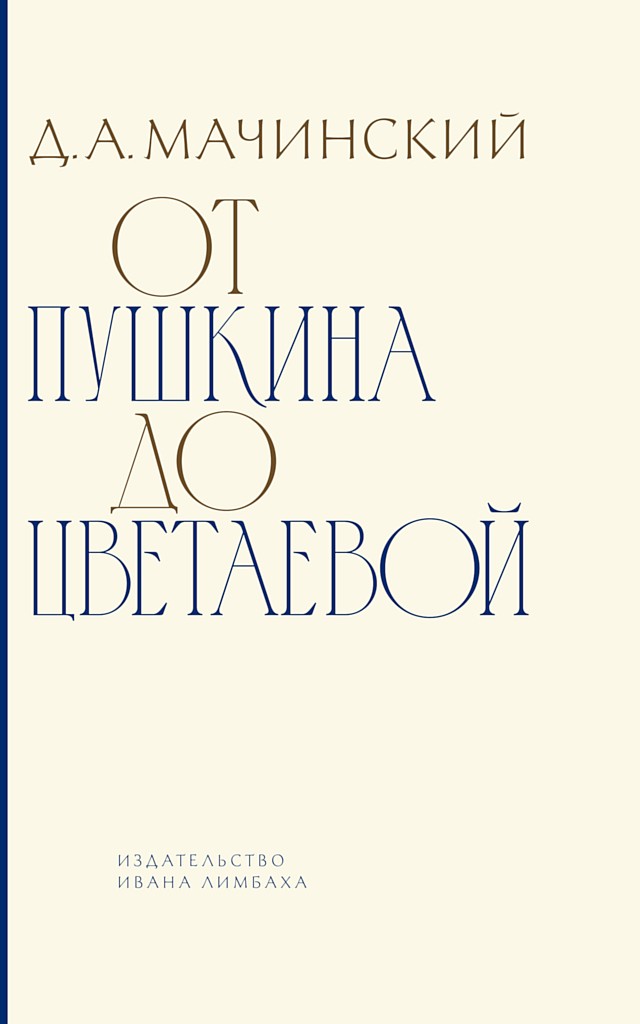в начале ХVIII века сам Петр, и «на высоту» Россию поднял он сам, и вздыбил сам, и этим — обнаружил еще раз существование бездны, присущей Российской истории, на самом деле, как минимум, с татарского завоевания, а в предчувствии — с первого вступления на «историческую арену» славянства в I веке н. э. в «области взаимного ужаса между германцами и сарматами», как назвал эту «славянскую арену» великий историк Тацит. Да и вчитаемся в поэму — образ «неколебимой вышины», «темной вышины», «высоты» — неотъемлемая принадлежность образа кумира, истукана, она теснее связана с ним самим, а не с конем, коня загнал на темную и неколебимую вышину он сам своею «волей роковой» — и этим обнажил знание бездны, вечно существующей под ногами России, но откровенно разверзающейся лишь в поворотные, трагические моменты.
Петр своими деяниями создал разрыв, напряжение между горизонтально-устойчивой природой России, а также соответствующими тенденциями ее истории и порывом в «темную вышину» внешней европеизации, всемирных имперских задач, создания иерархической структуры государства, между российской стихийностью и аморфностью и жесткой структурой бюрократическо-военно-церковной власти; наконец, между действительно высокими плодами своих деяний (культура и личность пушкинской поры) и теми жуткими средствами, которые в конечном итоге дали жизнь этой культуре и личности, одновременно продолжая «придушивать» и унижать их.
Это реально связанное с Петром напряжение и почуял поэт, равно как и освобождающуюся волю коня, который готов сам своевольно продолжить движение и опустить копыта… в бездне.
Мы — читатели 1990-х годов — можем по-особому воспринимать образ коня и бездны. Похоже, что конь-Россия все же совершил прыжок, провиденный духовными очами безумного Евгения, и мы таки побывали в бездне, в рукотворном аду, и сейчас конь выбирается из нее, но задние ноги его еще там.
Но это — один, так сказать, российско-государственный уровень ассоциаций. Другой, почти всеобъемлющий смысл намечается в этом же десятистрочии; между конем (Россией) и бездной (опасностями судьбы) в виде отдельного восклицания: «О мощный властелин судьбы!» По контексту — Петр как бы властелин судьбы России — что тоже огромно и несколько неправомерно, поскольку явно превышает полномочия даже такого самодержца и полубога, как Петр. (По древнегреческим и скандинавским представлениям, и Зевс и Один подвластны судьбе.) Но тема судьбы для Пушкина — краеугольная тема его мирочувствия, в этой теме он прошел по многим кругам, и, конечно, судьба для него — понятие всемирное. Этого «властелина судьбы» можно было бы счесть обмолвкой, если бы только тот, к кому отнесен этот наивысший титул, не возник впервые в поэме перед очами Евгения в момент вопля о «насмешке неба над землей». Да и сейчас, не забудем, по контексту этот титул внутренне произносит не только Пушкин, но и «ясномыслящий» Евгений.
И здесь это уже не царь Петр и даже не то языческое божество, которое творило в начале, но было все же лишь божеством этой земли, послушным ее природе («природой здесь нам суждено»).
Здесь Евгений, вновь увидев памятник с той же точки, что и в первый раз, с крыльца дома со львами, продолжает ту же мучительную мысль, испытывает ту же боль, которая возникла в его голове тогда, на льве; в Петре его безумное сознание прозревает олицетворение самой судьбы, рока, неба, ответственных за всё, в том числе за город «под морем», за гибель любви.
И именно как «властелин судьбы» «ужасен он в окрестной мгле». Все пушкинские характеристики Петра и в поэзии и в прозе либо положительны, либо амбивалентны — как в «Полтаве»: «Лик его ужасен, / Движенья быстры. Он прекрасен, / Он весь, как божия гроза». Здесь же беспросветный ужас (который дальше будет нарастать в сцене оживания статуи и ночной погони) обусловлен тем, что Всадник связан в сознании Евгения с «насмешкой неба», что он «властелин судьбы», ее олицетворение, от коего зависит и судьба го-рода, и жизнь любимой. Зреющий в Евгении протест пронизывает все уровни — от Петра, как выразителя железной и беспощадной «воли роковой» государства, до той безымянной, ужасной и насмешливой силы, которая стоит над всем (или — почти над всем).
Петр до сих пор неподвижен. К слову, у Пушкина в черновике Петр грозит бунтующей Неве «простертою рукою». Но в беловике поэт оставил его неколебимым. Бунт Невы, которую Пушкин один раз называет зверем, другой — конем, его не трогает, он как бы входит в его планы и предначертания. Волны Невы в поэме сродни коню Петра, только они уже бунтуют — и безнадежно, как декабристы у подножия пьедестала (или, по представлению Пушкина, как Польша), а возможный своевольный прыжок коня в бездну — еще впереди. Гибель же лачуг и бедняков — что это для «горделивого истукана» и тем более для «властелина судьбы»?
Но вот Евгений произносит свое неопределенно-грозное и чреватое всеми последствиями «Ужо тебе!..» с многозначительным многоточием — и все приходит в движение. Неподвижный истукан превращается в карающего апокалиптического всадника. Неясно, на каком уровне услышан Евгений — или на всех? — самим ли Петром, продолжающим существовать в связи со своим монументом, «русским богом» — некой личностной силой, соотнесенной с территорией и историей России, или же самим небом, самим «властелином судьбы»?
Как бы то ни было, мощная неподвижная сила, заключенная в монументе, узнает в Евгении единственного достойного противника, коего надо подавить, но над которым — и это обычно не замечают читатели поэмы — она не властна. Сила Любви, пробудившая в Евгении ясновидящую Личность, небезразлична и — о чудо! — опасна даже Судьбе, на всех ее уровнях.
И именно в сцене великого противостояния «бедного Евгения» и «властелина судьбы» проявляется вся темная и слепая сила, провиденная Евгением в монументе. Памятник впервые получает собственное апокалиптическое имя «Всадник Медный» и связывается со стихией ночи и луны. Заметим, что еще при описании открытия монумента было отмечено, что стоял туман, но в момент ниспадения покрывала с памятника появилось солнце. И с тех пор Петр Великий получает в русской прозе и поэзии черты божества солнечного или грозового — в том числе у Пушкина. В поэме же, в момент обнаружения мистической сути монумента, также происходит изменение погоды — но иного рода: когда Евгений ночью идет к «дому со львами» — «дождь капал»; когда же он произносит угрозу и Всадник приходит в движение, то он «озарен луною бледной».
Однако заметим, что «мощный властелин судьбы» не смог ни затоптать Евгения, ни окончательно свести его с ума, ни вовлечь его в длительное злобное противостояние…
Но здесь возникает один существенный вопрос: в поэме есть всадник, конь, скала — один раз прямо названная и постоянно скрыто присутствующая в образе «высоты», — а где