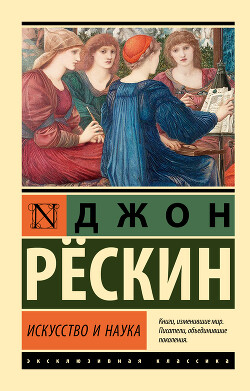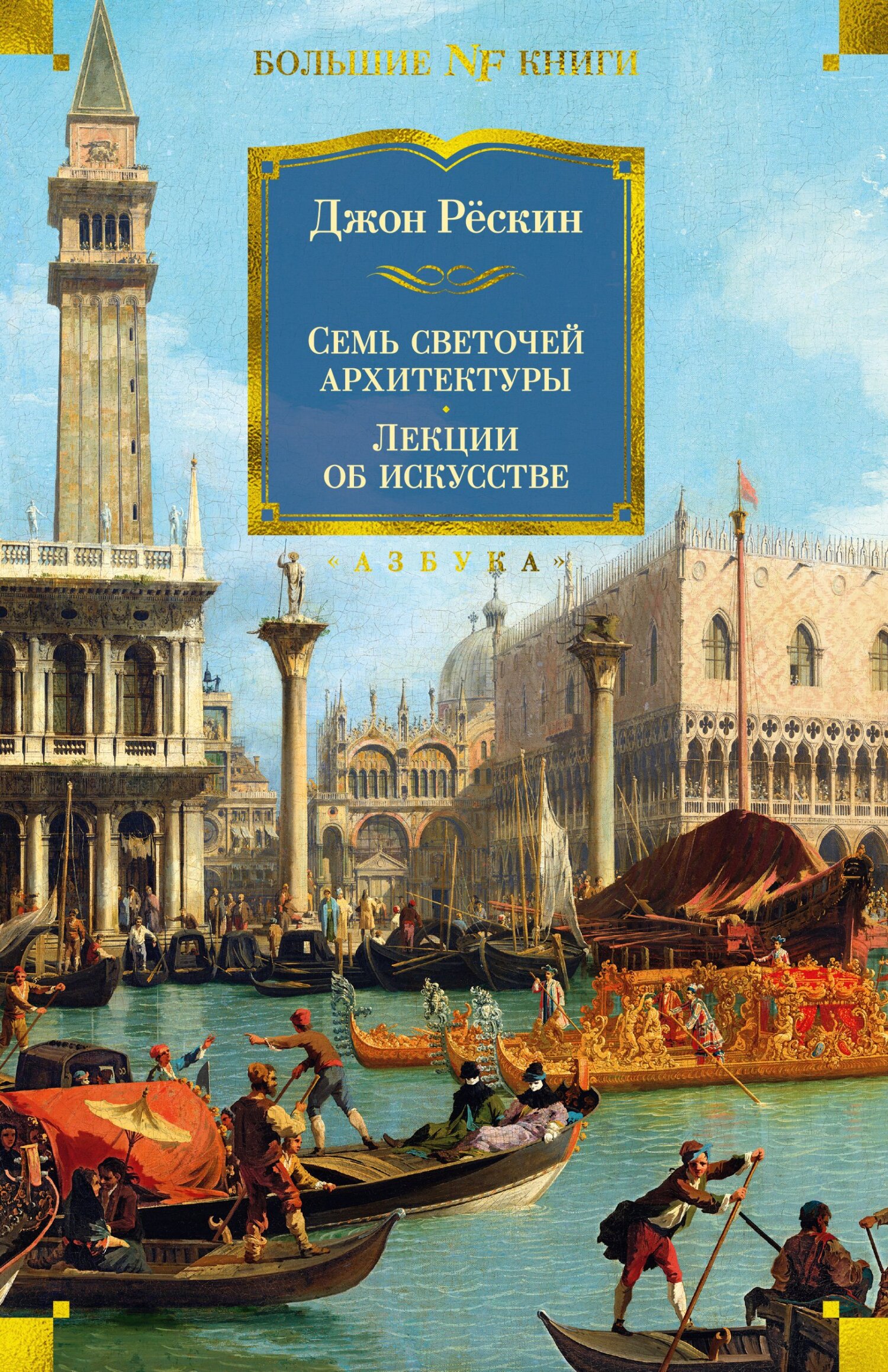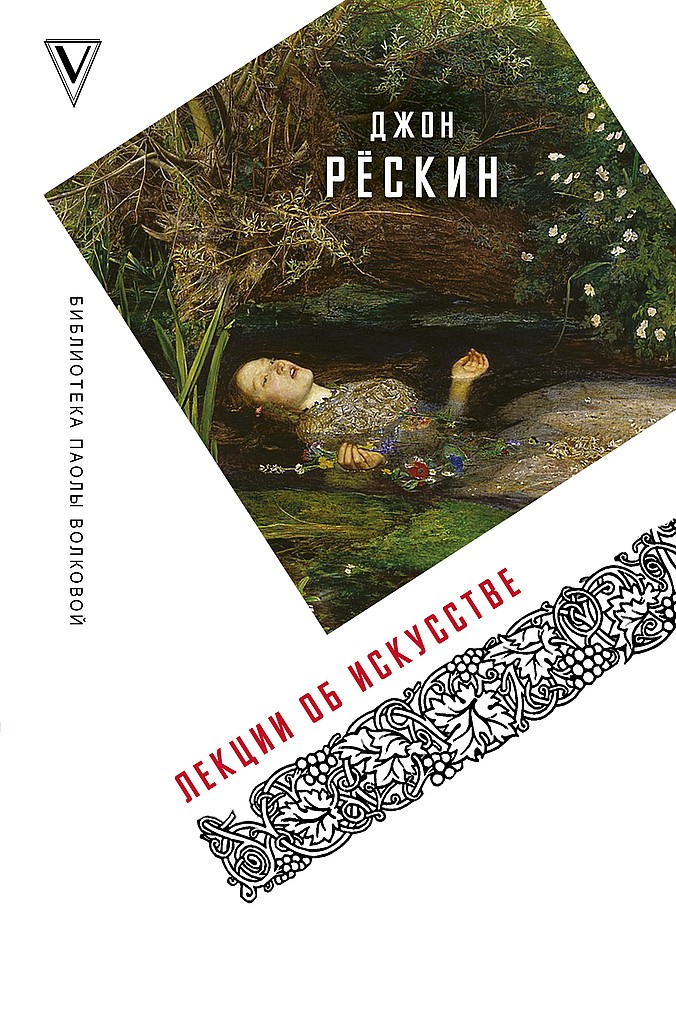148. Подведем итоги сказанному, так как мои иллюстрации могли спутать вас:
I. Вы на наших рисунках должны стараться изобразить видимую картину предметов, тщательно избегая изображать то, что вы знаете о них.
II. Эти видимые картины предметов вы должны проверять применением научных законов перспективы и научиться путем измерения и самого тщательного внимания изображать их безусловно верно.
III. Научившись верно изображать действительный вид предметов, вы, если обладаете оригинальным человеческим дарованием, получите на картине, одухотворенной им, нечто более благородное и более верное, чем на верной копии с действительности; и создание этих-то одухотворенных картин и есть задача тонкого искусства, основанного, безусловно, как на правде, так и на воображении. И мы в заключение можем еще раз повторить слова учителя, но употребляя их в более глубоком смысле: «И все лучшее в этом роде только тени».
Да, милостивые государи, ваша задача состоит в том, чтоб стараться, чтоб ваши картины по крайней мере были таковыми.
Лекция VIII
Отношение наук об органической форме к искусству
2 марта 1872 года
149. Мне предстоит теперь говорить об отношении искусства к науке, когда ее главным предметом является органическая форма, служащая выражением жизни. Но, как и в предыдущей лекции, я начну прежде всего с того, что намерен главным образом поставить на вид.
Во-первых, и долго останавливаться на этом у меня не будет достаточно времени, – что истинная сила искусства должна быть основана на общем знании органической природы, а не только человеческой формы.
Во-вторых, что при изображении этой органической природы, точно так же как и при изображении неодушевленных предметов, искусству нет дела до строения, причин или безотносительных фактов; его интересует только внешний вид.
В-третьих, что при изображении этого внешнего вида ему больше мешает, чем помогает, знание того, что наружно не проявляется, вследствие чего изучение общей анатомии растений, животных и человека является только помехой для графического искусства.
В-четвертых, что при замысле и изображении человеческой формы привычка рассматривать ее анатомическое строение не только служит препятствием, но и ведет к извращению; кроме того, даже изучение внешней формы человеческого тела, более обнаженного, чем это считается приличным в повседневной жизни, было крайне пагубно для каждой школы искусства, где оно только практиковалось.
150. Эти-то четыре положения я и собираюсь постепенно разъяснить вам в течение нашего курса. В одной лекции, конечно, я могу только ясно высказать и установить их.
Во-первых, я говорю вам, что искусство должно познакомиться со всеми живущими предметами и настолько узнать их, чтобы быть в состоянии назвать или, иначе говоря, правдиво и ясно описать их. Создатель каждый день перед благороднейшим из своих созданий проводит всякое низшее творение, чтоб «как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей» [67].
Во-вторых. Изображая их, даже думая и заботясь об этих животных, человек должен представлять их себе со шкурою на них и с душою внутри них. Он должен знать, какие на них пятна и складки, какая шкура или перья, каков взгляд их глаз, как они хватают, какой обладают цепкостью, каким бегом, каким ударом лап или когтей. Он должен рассматривать их со всех точек зрения, но только не с точки зрения мясника. Он никогда не должен думать о них, как о костях и мясе.
В-третьих. При изображении их внешности знакомство с костями и мясом, суставами и мускулами, скорее, служит помехой, чем помощью.
Наконец по отношению к человеческой форме подобное знание не только мешает, но и развращает; и изучение голого тела вредно, если оно переступает за границы приличия и благопристойности, допускаемых в обыденной жизни.
Вот мои четыре положения. Я не буду вас задерживать, долго останавливаясь на первых двух, – на том, что мы должны знать каждого рода животное со шкурой на нем и с душою в нем. Но вы можете счесть за парадокс – может быть, за невероятный и дерзкий парадокс, – если я скажу, что изучение анатомии мешает вам делать это. Поэтому я обращусь только к последним двум пунктам.
151. Среди ваших образцов гравюр я выставил гравюру с картины Тициана с девочкой Строцци, кормящей собаку [68]. В первоначальной серии, где вы всегда можете видеть ее, я помещу еще более очаровательную, хотя и не вполне годную для образца, картину Рейнольдса, изображающую маленькую дочь Георга III со своим скай-терьером [69].
Я не сомневаюсь, что эти собаки настоящие баловни, изображенные так же верно, как и их хозяйки; и что маленькая принцесса флорентийская и принцесса английская помещены в компании, самой подходящей для их возраста; старшая кормит своего любимца, а малютка обнимает своего, обвив ручонками его шею.
Но обычай выставлять на вид или собаку, или другое какое-либо низшее животное, для контраста или для скромного сочетания с благороднейшей человеческой формой и душой, есть своего рода, так сказать, мысленная анатомия, относящаяся к очень отдаленной эпохе.
Одной из наиболее интересных греческих ваз в Британском музее служит та, живопись на которой долго слыла под названием «Анакреон и его собака». Перед вами греческий лирический поэт, поющий с поднятой головой, с жестом Орфея и Филаммона в моменты их величественного вдохновения, между тем как около него бродит, совершенно равнодушная и презирающая музыку, остроносая и короткохвостая собака, изображение которой особенные почитатели греческого искусства назвали бы идеальным, потому что хвост ее более похож на взрыв фейерверка, чем на хвост; но идеал явно основан на действительном существовании очаровательного, хотя и надменного животного, отчасти похожего на тот, который в настоящее время служит главной отрадой моих работ в Оксфорде, а именно на Бестль – собаку доктора Акланда.
Я мог бы вернуться назад к еще гораздо более древней эпохе, но во всяком случае, со времен золотой собаки Пиндара, фавна Дианы, орла, филина и павлина великих греческих богов, вы находите целый ряд животных типов – сосредоточивающийся, конечно, в Средние века на собаках и соколах, – которыми искусство пользовалось как символами или как контрастами достоинств человеческих личностей. В современной портретной живописи, благодаря желанию каждого, посылающего свой портрет или портрет своих детей в Королевскую академию, вошло в обычай выставлять на вид пони или собаку с хлыстом во рту с целью показать публике, что лица, изображенные на портрете, живут в соответствующее время года в деревне. Но у великих мастеров в основе того же самого лежит глубокий смысл, относительно тайны сравнительного существования живых существ и способа, каким они проявляют свои пороки и добродетели. Альбрехт Дюрер почти никогда не рисует ни одной сцены из жизни Богородицы без того, чтобы не поместить на переднем плане каких-нибудь беспечных херувимов, играющих с кроликами или котятами; иногда же его любовь к странностям берет верх над всем лучшим в нем, как, например, в гравюре «Мадонна с обезьяной». Веронезе расстраивает свидание королевы с Соломоном, изображая дерзкий лай болонки, к которой Соломон отнесся недостаточно почтительно; когда же Веронезе представляется сам со всей своей семьей Мадонне, я с грустью вижу, что его любимая собака поворачивается к Мадонне задом и выходит из комнаты.
152. Но среди этих символических шуток великих мастеров ничего не может быть прекраснее картины Рейнольдса, изображающей маленькую английскую принцессу со своим жесткошерстным терьером. Он приложил все усилия, чтобы показать бесконечную разницу и в то же время благодатную гармонию человеческой и низшей природы. Имея в виду нарисовать голубоглазую [70], нежную девочку, он изображает ее полное личико совершенно круглым, с широко раскрытыми глазами, потому что кто-то пришел, кого она не знает. Но она удивлена, а не смущена, как и подобает принцессе. Рядом же с этим нежным, чистосердечным ребенком Рейнольдс поместил щетинистую, задорную собачку. Вместо широко раскрытых глаз, перед вами только темные пятна среди волос, где, вы знаете, должны быть глаза терьера, достаточно проницательные, если бы вы могли их видеть, и, несомненно, смотрящие на вас, но без удивления, не так, как смотрят глаза ребенка. Дело в том, что терьер тотчас же составил о вас свое мнение, нашел, что вам тут нечего делать, свирепо заворчал и зарычал, не отступая, однако, от хозяйки и не ускользая из-под ее руки. Вы имеете, таким образом, полный контраст между грацией и истинной прелестью ребенка, не думающего о вас дурного, и немилосердной тупостью природы в собаке, которая думает о вас только дурное. Но достоинство и доверчивость собаки выражены не менее ясно; она, очевидно, играет в глазах девочки роль подушки, но менее, чем роль товарища по играм, – запустив с любовной доверчивостью свою ручку в жесткую шерсть товарища, ребенок уже наполовину решился ей покровительствовать: тут и ребенок готов защищать собаку и собака ребенка во всякое время и при всех превратностях судьбы.