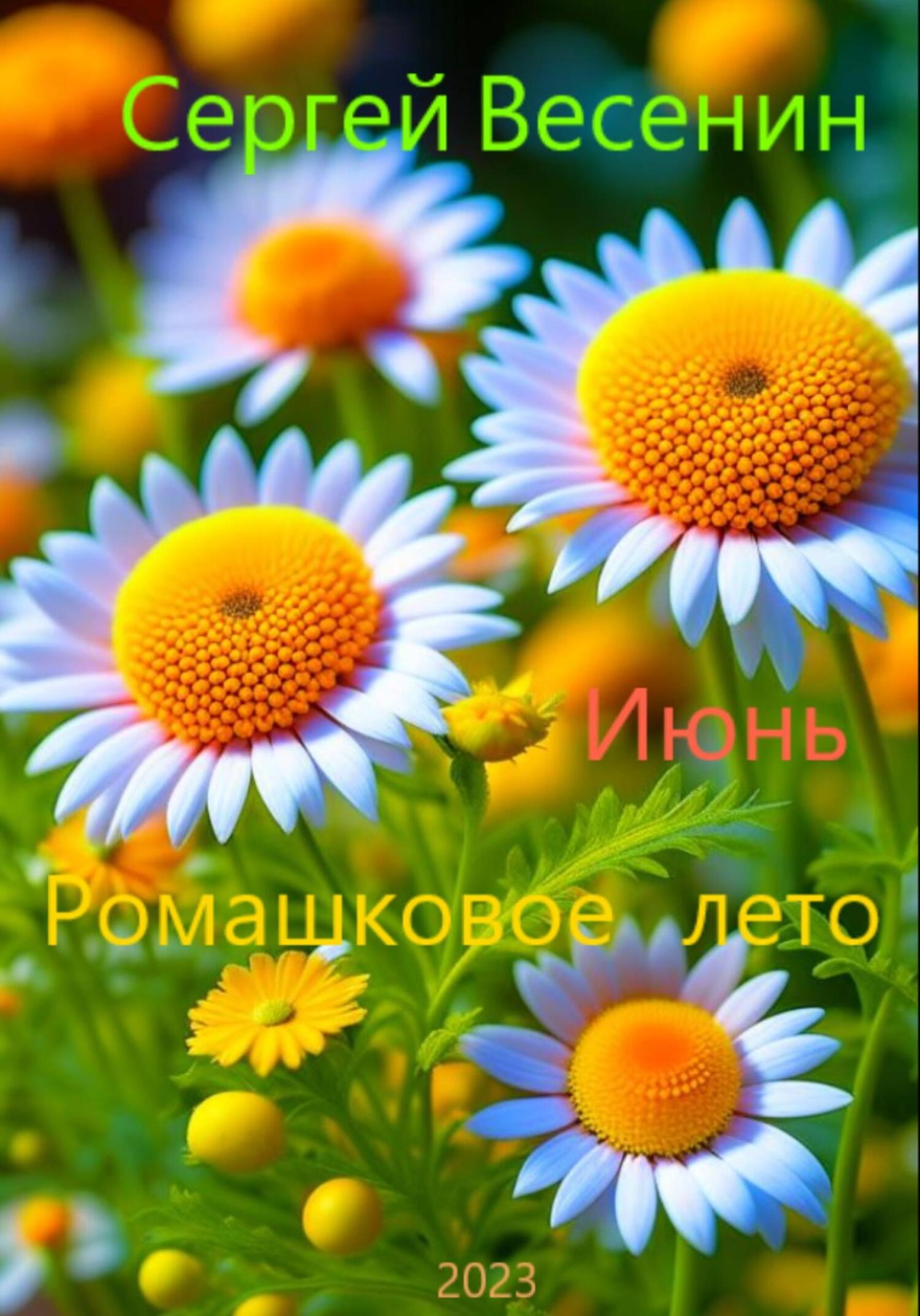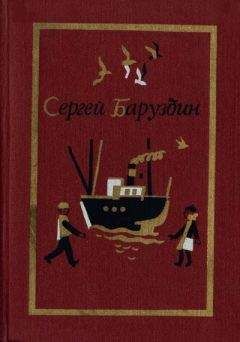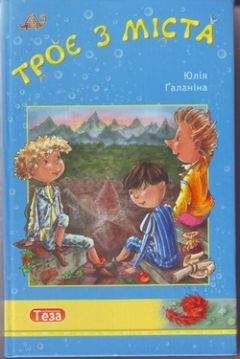и вот у дверей заведения он ни с того ни с сего задает взбучку нищему:
Единым ударом кулака я подбил ему глаз, который в секунду вспух до размеров мяча. Сломав себе ноготь, я выбил ему два зуба <…> [46]
Правда, трепка производилась с намерением пробудить беднягу от дремоты, чтобы тот воспрянул, взял быка за рога, – и вот урок приносит плоды:
Вдруг <…> мой дряхлый бродяга кинулся на меня, подбил мне оба глаза, выбил мне четыре зуба и <…> обрушил на меня град колотушек. Право, мое энергичное лечение вернуло ему гордость и жизнь. [47]
Поэт набросился на нищего, чтобы побудить его к бунту, преподать ему урок воинственности. Вместе с карикатурами Домье Бодлер смеется над филантропами, которые полагают, что человек рождается добрым, ответственность за нищету возлагают на общество и видят духовное возрождение бедняков в добрых словах и добрых чувствах. Один из вариантов стихотворения был нацелен на социалиста-утописта Пьера-Жозефа Прудона. Бодлер и сам прибегает к провокации и резким выпадам, которые добавляют силу и экспрессию его творчеству.
Бодлер не был демократом. В 1848 году он вдохновился революцией и бегал по улицам Парижа с криком: «Надо расстрелять генерала Опика!» В то время его отчим командовал Политехнической школой, бывшей центром протестов против режима Луи-Филиппа. Но, видимо, довольно скоро Бодлер разочаровался. Его потряс государственный переворот в декабре 1851 года, но, более того, потрясли итоги всеобщего голосования, которые вскоре его ратифицировали. После парламентских выборов в феврале и марте 1852 года он говорил: «Вы не видели меня на голосовании<…>. 2 ДЕКАБРЯ меня физически деполитизировало. <…> Если бы я голосовал, я голосовал бы только за себя» [48]. Как и большинство интеллектуалов, он вынес из этого окончательное недоверие к прямому всеобщему голосованию, узаконившему диктатуру.
В бельгийских записях, сделанных в конце жизни, всеобщее избирательное право он уподобит встрече человека с самим собой:
(Нет ничего смехотворней, чем искать истину в массах.)
Всеобщее избирательное право и столоверчение. Это человек, ищущий истину в человеке (!!!)
Всеобщее избирательное право и столоверчение были пристрастиями Виктора Гюго; одно рационально, другое иррационально, но оба в равной степени абсурдны, поскольку они недооценивают «ничтожество человека» (о котором говорил Паскаль) и свидетельствуют о его гордыне, об иллюзии, что он в силах найти истину в одиночку, сам и в себе самом.
В Зеркале, крошечном стихотворении в прозе из Парижского сплина, Бодлер осмеивает народовластие:
Входит страшный урод и смотрится в зеркало.
«Зачем вы глядите на свое отражение? Ведь то, что вы видите, не доставит вам радости».
Страшный урод отвечает мне: «Сударь, в согласии с бессмертными принципами восемьдесят девятого года, все люди равны в правах; следовательно, я имею право себя рассматривать; а приятно это мне или неприятно – это касается лишь меня и моей совести».
С точки зрения здравого смысла я, несомненно, прав; но с точки зрения закона правда на его стороне. [49]
В этой басне страшный урод – это извечный человек, не добрый человек Руссо, в такого Бодлер не верит, а падший, меченный первородным грехом. Но отныне он наделен всеми правами, правами человека. Бодлер открыто смеется над «бессмертными принципами восемьдесят девятого года», дающими каждому право смотреть на себя в зеркало. При Старом режиме зеркало было предметом роскоши, привилегией знати, но теперь промышленность задешево распространяет возможность смотреть на себя, любоваться собой. По замечанию Жана Старобинского, «взгляд в зеркало есть аристократическая привилегия индивида, который умеет посмеяться над собой», то есть раздвоиться, взглянуть на себя со стороны, как денди, а не погружаться в самолюбование подобно Нарциссу. Таким образом, для Бодлера демократизация зеркала есть «истинное кощунство», это и политический конфуз, и метафизическая ересь.
При всеобщем избирательном праве человек ищет истину в массах, как в зеркале. Маленькая притча о Зеркале осмеивает демократию, основанную на идее о доброй природе человека. Это стихотворение – антиэгалитарная сатира или даже сарказм, навеянный идеями контрреволюционного мыслителя Жозефа де Местра, которого Бодлер открыл для себя во времена государственного переворота и который, по словам поэта, вместе с Эдгаром По научил его «рассуждать».
Эта мысль согласуется с суровым приговором, который Бодлер вынес демократии еще в Моем обнаженном сердце:
Что я думаю о голосовании и избирательном праве. Права человека. <…>
Можете ли вы представить себе Денди, взывающего к народу, – ну разве что с издевкой?
Разумно и твердо править способна только аристократия.
Монархия и республика, основанные на демократии, равно нелепы и слабы. [50]
Зеркало – это издевка денди над человеком с правами человека. Позиция Бодлера была типичной для многих писателей, которые во времена Второй империи были сердиты на народ, проголосовавший за тирана, и полагали, что им причиталось больше одного голоса, – но коль скоро дело обстояло не так, не голосовали вообще.
Бодлер был современником грандиозной реконструкции Парижа, осуществленной бароном Османом по распоряжению Наполеона III; он был свидетелем разрушения средневековых кварталов, в том числе и его родной улицы Отфёй; он наблюдал, как прокладывались бульвары; поговаривали, что их назначение – помешать скоплению толп и возведению баррикад, как в 1848 году. Прекрасные фотографии Шарля Марвиля, запечатлевшие перемены в столице времен Второй империи, выступают комментариями к некоторым стихам Бодлера.
Поэт сожалел об утрате памяти о старом Париже; он признается в этом в Лебеде, одном из прекраснейших стихотворений цикла Картины Парижа, добавленном к Цветам зла в 1861 году и описывающем «новую Карусель» после разрушения народного квартала, простиравшегося между Лувром и Тюильри:
Где ты, старый Париж? Как всё чуждо и ново!
Изменяется город быстрей, чем сердца. [51]
Исчезновение старого города обостряло тоску поэта, делая его сообщником всех сирот, отверженных, жертв современного мира:
Изменился Париж мой, но грусть неизменна.
Всё становится символом – краны, леса,
Старый город, привычная старая Сена, —
Больно вспомнить их милые мне голоса. [52]
Обновлению столицы Бодлер противопоставляет груз памяти [53]. Многие стихотворения в прозе Парижского сплина связаны с переменами городского пейзажа: Глаза бедняков описывают новые кафе на бульварах с их просторными террасами, где под газовым освещением, отныне превратившим