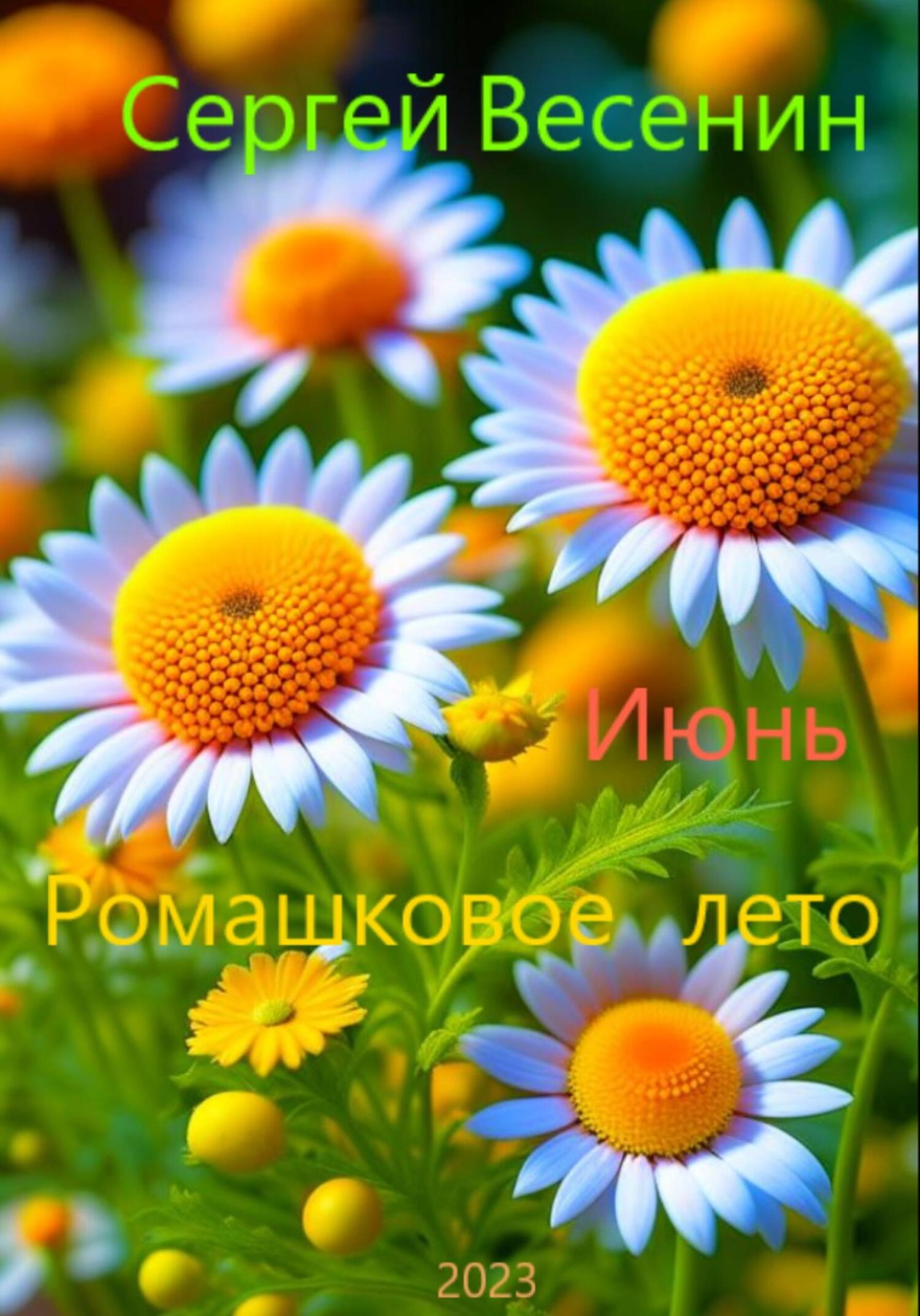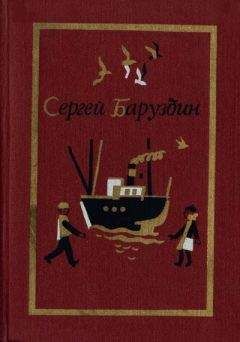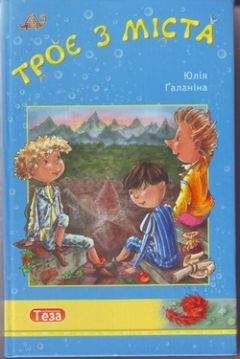итоги. Он постоянно занимался этим в дневниках и письмах, в особенности когда писал матери. Он обещал изменить свою жизнь, отказаться от вина и гашиша, расстаться с любовницей, начать новую жизнь, более здоровую, более разумную, устроиться наконец «окончательным образом», получить освобождение от опекунства, удушавшего его после безобразий, которые он учинял в двадцатилетнем возрасте. В декабре 1855-го, на пороге нового года, он признавался матери:
Я бесконечно устал от забегаловок и меблированных комнат; это убивает меня и отравляет. Не знаю, как я их до сих пор выносил. <…>
Моя дорогая матушка, вы совершенно не представляете, что такое жизнь поэта, и несомненно не очень поймете эти мои доводы; но в них-то и коренятся мои главные страхи; я не хочу подохнуть в безвестности, не хочу встретить старость в безалаберной жизни, не соглашусь на это НИКОГДА; и я верю, что моя личность очень ценна; не скажу, что она ценней других, но достаточно ценна для меня.
Список адресов Бодлера огромен. Он всё время переезжает; он тщетно пытается порвать с Жанной Дюваль, «бедной женщиной, которую я давно уже люблю только из чувства долга», признавался он матери с 1848 года. Он принимает решения, которым никогда не следует; вот, например, что он пишет 1 января 1865 года:
Мой главный долг, даже единственный, это сделать тебя счастливой. Я непрестанно об этом думаю. Будет ли мне это когда-нибудь дозволено? <…> Прежде всего я тебе обещаю, что в этом году тебе не придется слышать от меня никаких просьб о помощи. <…> Также обещаю тебе, что ни один день этого года не пройдет без работы.
Тратить меньше и работать больше: эти обещания всегда оставались пустыми. В 1857 году мать обосновалась в Онфлёре, и с тех пор он непрестанно обещает к ней приехать; но долги, векселя и погашение долгов за счет новых кредитов удерживают его в Париже, который для него и яд и противоядие. Он множит проекты, которые поправят его дела: замышляет романы, рассказы и драмы, пишет и переписывает призрачные списки названий. Так, в 1861 году: «Моя воля пребывает в плачевном состоянии, и если я не нырну с головой в работу (по гигиеническим соображениям), я погиб».
Во фрагментарных записях Фейерверков он проявляет трезвость разочарованного моралиста, но в Гигиене притязает на то, что ему удастся взять под контроль свою ежедневную жизнь, режим питания и сон, он думает, что способен подчиниться благоприятной для творчества дисциплине. Никто больше его не говорил о труде, никто до такой степени не видел в труде своего спасения:
Чем больше желаешь, тем лучше желаешь.
Чем больше трудишься, тем лучше трудишься и тем больше хочешь трудиться. Чем больше производишь, тем становишься плодовитее. [31]
Чтобы исцелиться от чего угодно, от нищеты, болезни и меланхолии, недостает только одного – вкуса к труду. [32]
Если будешь работать изо дня в день, жизнь сделается для тебя более сносной.
Работай шесть дней, не давая себе передышки. [33]
Работалось Бодлеру всегда тяжко, написал он не так уж много, а слово «труд» мы встречаем у него повсеместно. Можно ли сравнить тоненький сборник Цветов зла с внушительной продукцией Виктора Гюго? Гюго каждый год публиковал столько стихов, сколько Бодлер написал за всю жизнь, да и тысячи страниц его романов несопоставимы с полусотней маленьких стихотворений в прозе Парижского сплина. Бодлер был одним из редких писателей, кого потомство упрекало в скудости наследия, в неплодовитости.
Мы представляем себе денди, праздного гуляку, который живет в свое удовольствие и наслаждается жизнью. Всё наоборот: Бодлер был меланхоликом, он упрекал себя в бездействии, страдал от своей лени, проклинал привычку откладывать дела на завтра и мечтал трудиться. С 1847 года, еще молодым, он прекрасно умел анализировать свое состояние: «Вообразите постоянную праздность, порожденную постоянным нездоровьем, и вдобавок глубокую ненависть к этой праздности». Сплин и Идеал, следуя оппозиции, структурирующей Цветы зла, это страдание и труд. Бодлер неустанно воспевает труд, подталкивает себя к работе, но поэту суждено было отлынивать от работы, оттягивать ее начало.
В Лебеде слова Труд и Тоска выведены с большой буквы. Труд, как в максимах, которые Бодлер адресует себе в личных записях, это и тоска, и лекарство от тоски, сплина и меланхолии. Бодлер хочет трудиться всерьез, жить лучше, чтобы трудиться больше, но ему никогда это не удается. Еще раз заглянем в Гигиену:
В Онфлёр! Как можно скорей, пока не скатился еще ниже.
Сколько предчувствий и сколько знамений, ниспосланных мне Богом, свидетельствуют, что поистине приспело время действовать и пора наконец осознать, что нынешняя минута – это наиболее важная из всех минут, пора превратить мою привычную пытку, то есть Труд, в беспредельное наслаждение! [34]
Он пишет матери в июле 1861 года: «Я не говорю тебе обо всех моих литературных мечтах, которые хочу осуществить в Онфлёре. Их список был бы слишком длинным. <…> Двадцать сюжетов романов, два сюжета драм и большая книга о себе самом, моя Исповедь». И вот в марте 1866 года, в одном из своих последних писем: «Едва ли не самой заветной моей мечтой всегда было обосноваться в Онфлёре» – эти мечты так и останутся воздушным замком.
Сочинения Бодлера умещаются в одну книгу, но их значимость не измеряется объемом. Пришло время, когда столь немногочисленные стихотворения Бодлера стали весомей тысяч стихов его соперников. И разве его уныние и прокрастинация – круговорот лени, праздности, непродуктивности и провалов – не были на самом деле непременным условием успеха его творчества?
Душа, тобою жизнь столетий прожита!
Огромный шкап, где спят забытые счета,
Где склад старинных дел, романсов позабытых,
Записок и кудрей, расписками обвитых,
Скрывает меньше тайн, чем дух печальный мой.
Он – пирамида, склеп бездонный, полный тьмой,
Он больше трупов скрыл, чем братская могила.
Я – кладбище, чей сон луна давно забыла,
Где черви длинные, как угрызений клуб,
Влачатся, чтоб точить любезный сердцу труп;
Я – старый будуар, весь полный роз поблеклых
И позабытых мод, где в запыленных стеклах
Пастели грустные и бледные Буше
Впивают аромат… [35]
Этот второй Сплин из Цветов зла был, наверное, первым стихотворением Бодлера, которое я прочел – или которое меня взволновало. Как